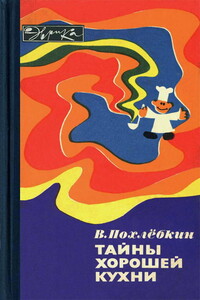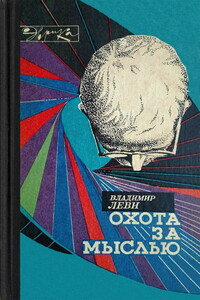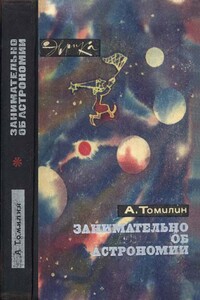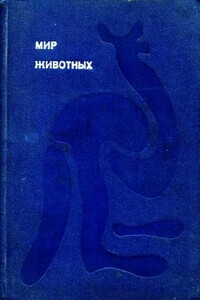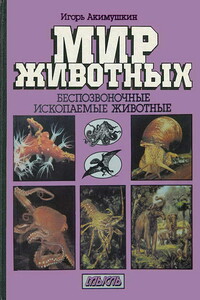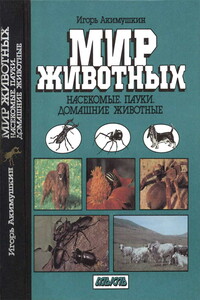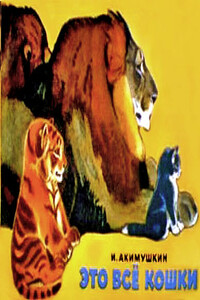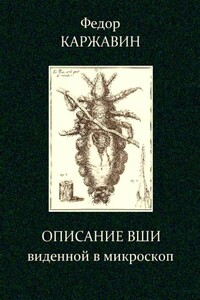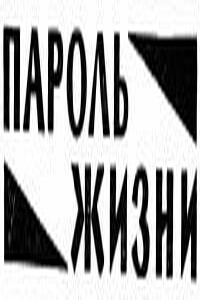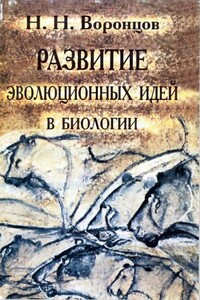Однако восстановление тарпана оказалось делом куда более сложным, чем полагали вначале, после первых успешных опытов. За удачами, как всегда бывает, пришли неудачи. Ученые испробовали много разных вариантов, комбинировали и так и этак: кровь детмольдовских лошадей «сливали» в разных пропорциях с кровью коников, примитивных пони и лошадей Пржевальского. И дело пошло на лад.
Но тут началась вторая мировая война. Работы были прерваны. Все тарпаноиды Берлинского сада погибли. Но мюнхенские уцелели. Их сейчас несколько десятков голов, и они «уже приобрели тарпаний вид».
И вот что интересно: генетики не старались вывести лошадей с более крепкими копытами. Но это получилось само собой: вместе с другими примитивными чертами их питомцы обрели и этот атавистический дар своего дикого предка — очень прочные копыта.
Уже после войны, рассказывает Филипп Стрит в книге об исчезающих животных, один мюнхенский «тарпан», запряженный в телегу, около тысячи миль (1600 километров) прошел по нелегким дорогам, «и, хотя он не был подкован, копыта этого „возрожденного“ тарпана отлично сохранились до конца путешествия».
Небольшая интермедия: сколько в мире лошадей!
Казалось бы, в наш механизированный век лошадь должна исчезнуть. Однако только на одну треть сократилось мировое поголовье лошадей по сравнению с началом нашего века: в 1913 году — 101,6 миллиона (из них в России больше 25 миллионов), в 1975 году — 65 миллионов. В 1937 году поголовье лошадей достигло рекордной цифры — 115 миллионов. Затем началась война, и много лошадей погибло.
По данным на 1975 год, в СССР — около 7 миллионов лошадей (58 различных пород), 105 конных заводов, 73 государственные конюшни, 843 племенные фермы и 61 ипподром.
По числу лошадей СССР стоит на четвертом месте в мире — после Бразилии, США и Китая. Вот некоторые данные в миллионах голов на 1975 год:
Бразилия — 9,5;
США — 8,956;
КНР — 7,0;
СССР — 6,745;
Мексика — 5,664;
Аргентина — 3,5;
МНР — 2,264;
Польша — 2,237;
Эфиопия — 1,5.
В прочих странах меньше 1,5 миллиона лошадей.
Больше всего лошадей в северном полушарии — около трех четвертей всего поголовья. В Северной и Центральной Америке-17 с небольшим миллионов. В Южной Америке — около 17 миллионов. В Азии (без СССР) — 14 миллионов. В Европе (без СССР) — немногим больше 6 миллионов и в Африке — 3,5 миллиона.
В обширных степях от Дуная и Балкан до Урала несколько тысячелетий назад жили индоевропейцы — предки или ближайшие сородичи почти всех европейских народов: славян, германцев, греков, римлян, а также хеттов, персов и индийцев. У индоевропейцев уже были домашние животные: овцы, коровы, свиньи. Но не было лошадей. А вокруг поселений паслись бесчисленные табуны тарпанов. Сначала индоевропейцы охотились на диких лошадей, а потом приручили их.
Раньше считали, что предком домашней лошади была лошадь Пржевальского. Теперь иное мнение: исследовали лошадей Пржевальского и нашли у них 65 хромосом, а у домашней лошади их оказалось 64. А это значит, что лошадь Пржевальского предком домашней лошади быть не могла. Другой у нее был предок — тарпан. Его и приручили индоевропейцы в третьем тысячелетии до нашей эры. Тогда же, очевидно, научились люди верховой езде.
Считалось, что лошадь вначале была упряжным животным, а верховым стала значительно позже. Однако как пасти табуны домашних лошадей? Только всадник может справиться с таким делом, пешему это не под силу.
Тысячелетия назад индоевропейцы стали расселяться по местам, окружающим их прародину.
И всюду вели с собой домашних лошадей. Были ли у индоевропейцев боевые колесницы, вопрос неясный. Повозки, запряженные волами, ослами или верблюдами, известны в странах Двуречья (в долинах Тигра и Евфрата, в Месопотамии) в четвертом тысячелетии до нашей эры, когда лошадь еще не была прирученной.
Во времена гиксосов (около XVII века до нашей эры) появились колесницы. Будто бы благодаря им гиксосы и покорили Египет, в котором тогда еще колесниц не было. Во втором тысячелетии до нашей эры колесницы уже «представляли собой произведения высокого технического искусства». Отдельные их детали делали разные мастера. И не из какого попало дерева, а из определенных его сортов, которые привозились издалека.