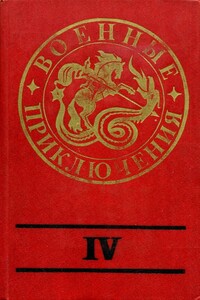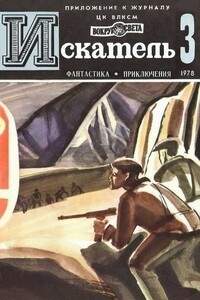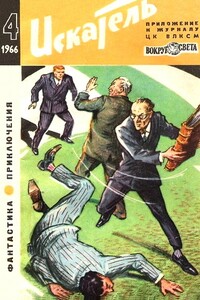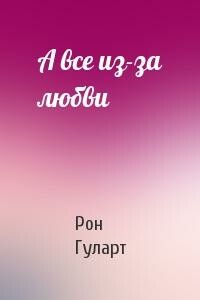Я даже не поняла, что сказала вслух:
— Я нашла гору Мефистофель, я…
Вдруг ужас сковал мне губы. Старик задрожал мелко-мелко, потом тело его и голова начали дергаться, и я увидела, что он плачет. Я бросилась к нему:
— Что с вами?
Он ничего не мог сказать, все плакал и плакал, а потом наконец сказал:
— Господи! Наконец-то я дождался! — А потом еще сказал: — Садись и слушай. Понимаешь, я знал, всю жизнь знал, что все это правда…
Потом он притянул мою голову и стал шептать мне в самое ухо:
— Второй такой прекрасной тайны нет на всей земле. И она достанется тебе, в награду за то, что ты поверила. Так вот я не знал только, где это — может, в Индии, может, в Африке. Но зато я знаю тайну этой горы, понимаешь? Никто не найдет там ничего, хоть туда придет целая армия, а ты найдешь одна…
Старик помолчал минуту. Ему трудно было говорить, дыхание его было хриплым.
— Подбородок Мефистофеля купается в море, и прямо под ним вход в пещеру. Входи в нее. Но это еще не все. Из пещеры войдешь в тоннель, ты войдешь туда, и… перед тобой будет стена. По этой стене, по стене, понимаешь, отсчитаешь шесть метров, если стоять лицом к горе, то вправо, и там… там будет расщелина. Это и есть вход.
Старик задрожал, и я испугалась, что он снова сейчас заплачет. Но это была нервная дрожь.
— Такой тайной еще никто не владел на земле, — снова повторил он, и я ему верила.
Я молчала, и он тоже молчал. Потом я чуть слышно, одними губами только, так, что я даже сама не поняла, сказала я или только подумала:
— А письмо вы написали?
И он сразу ответил:
— Конечно, я. Оно было к тебе.
Я даже подскочила:
— То есть как это ко мне?
— А ты разве не понимаешь? Тот человек, который должен был наконец это сделать, он должен был и понять в этом письме особый знак. Только один-единственный человек мог разглядеть этот знак.
— Его разглядела моя мама.
— Это все равно. Вы — один человек. Ты продолжение ее. И это… это был последний призыв. Я так надеялся, что он будет услышан. Я ведь скоро умру. И мне хотелось бы знать…
Я взяла его руку в свою. Она была вялая и холодная, и я сказала:
— Это будет сделано очень, очень скоро, и я сразу же вам напишу… нет, я приеду.
А он сказал:
— Теперь-то я уже знаю, что это будет сделано.
Мы помолчали. А потом он сказал:
— Я завидую тебе, детка. Ты изведаешь самое большое на свете счастье.
А я сказала:
— Я обязательно приеду к вам, обязательно!
Я спросила его еще, не нужно ли ему чего-нибудь — может, позвонить врачу или сходить в магазин. Но он вдруг снова разволновался:
— Это все устроено. За мной ухаживают. Ты езжай скорей!
Я решила, что никуда больше ходить не буду, даже в Эрмитаж. Сейчас же я поеду на вокзал и возьму билет. Я чувствовала в себе такое нетерпение, что не могла ждать ни минуты.
В этот же день я уехала. Я зашла только попрощаться к Ростиславу Васильевичу и Марианне Николаевне. И конечно, рассказала им обо всем.
И Ростислав Васильевич сказал, что он сам поедет к Рязанову. Не напишет, а обязательно поедет сам, расскажет ему все с самого начала и уговорит его самого заняться этим делом. И хоть Рязанов и не подводник, но это неважно. Он, только он, должен за это взяться, только он сможет добиться, чтоб утвердили экспедицию.
Мы договорились, что будем писать друг другу часто.
* * *
И вот я еду домой. Вообще я очень люблю ездить в поезде, хоть не так-то много ездила в своей жизни. Но на этот раз поезд был для меня пыткой. Он так медленно тащился, что мне хотелось выскочить из него и побежать.
Как только я села в поезд, я поняла, что я не буду, что я просто не могу ждать никаких экспедиций. Я поеду туда, к этой горе, и я влезу в эту чертову расщелину. Что там? Что? Сколько пройдет времени, пока Ростислав Васильевич уговорит Рязанова и пока Рязанов пробьет экспедицию…
А вдруг он скажет: «Да я же совсем даже не подводник, зачем мне все это нужно?» И действительно, зачем ему на старости лет лезть в воду, ревматизм себе наживать. Да и потом, сам Ростислав Васильевич говорил, что почти все сотрудники должны быть аквалангистами! А где их столько взять, чтоб были и археологами и аквалангистами?