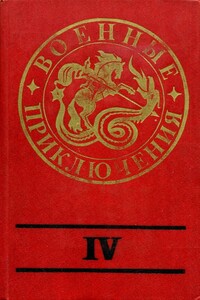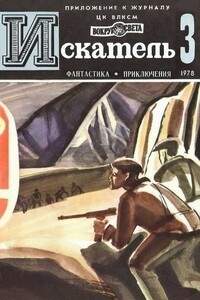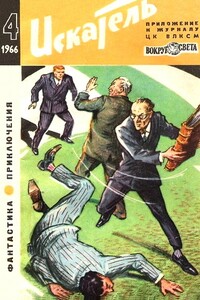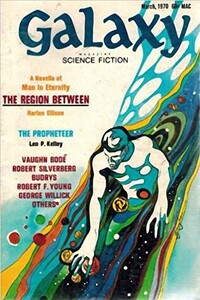Ужасно, что люди умирают, так пусть хоть дела их не умирают. Вот почему я хочу открыть тайну фигурок. Может, где-то рядом с нами навеки похоронено великое и прекрасное, а люди никогда об этом не узнают…
Теперь Матвей увидел, что со мной что-то происходит. Я ничего говорить не стала, все равно не смогла бы ничего объяснить. Он встал с земли, подошел и притянул меня к себе.
* * *
Закрылись дверцы автобуса, и мы поехали. Ничего не напоминало ни о нашем городе, ни о нашем времени. Автобус жил своей жизнью, он летел в полной темноте так быстро и свободно, как будто водителю даже и не требовалось смотреть на дорогу, как будто мы летели высоко в свободном небе, и только далеко внизу, как далекие звезды, мелькали огни кораблей, и изредка по крыше автобуса шуршали ветки деревьев — пролетая рядом с другими планетами, мы задевали за верхушки их лесов.
Я молчала. Я не могла говорить. Матвей начал было рассказывать мне историю последнего консула Солдайи, но прервал сам себя. Мы молча летели среди звезд, а за нашими спинами раздавались визгливый смех, сбивчивая пьяная речь — голоса далекого мира.
Кончилось ощущение свободного полета. Автобус, как жук, полез в гору, мы очутились в сплошном тумане и после медленного спуска снова помчались теперь уже по ровному шоссе. Казалось, что мы с Матвеем вот так вместе, рядом, давно, целую жизнь, и жизнь эта гораздо длиннее, чем моя и его. Она начинается в неведомых временах, и мы все время вместе.
Но вот сразу все кончилось. Мы приехали на автобусную станцию, и обыденная жизнь города вернула меня в наше время. С трудом двигая затекшими ногами, я встала с сиденья. Матвей помог мне сойти. Мы прошли сквозь спящий город и вышли к нашему переулку.
* * *
С самого утра я все чистила, мыла, и скребла, и наводила уют, а мама надо мной посмеивалась:
— Что это ты стала такой чистоплотной? Наверно, Матвей не очень-то любит нерях.
— Да, мама, как он все замечает, ты себе представить не можешь! Ты знаешь, у него чувство красивого развито до невозможной степени. И все неэстетичное его раздражает.
Мама засмеялась. Я с недоумением подняла голову от пола:
— Ты чего?
— Ну, тогда он должен быть очень раздражительным, ведь в жизни очень много неэстетичного.
— Ничуточки не раздражительный, как раз наоборот. Вот ты его узнаешь, тогда поймешь. Он настоящий философ. Он может себя настроить так, чтобы не замечать обыденности.
Мама опять засмеялась.
— Смотри, Татка, и ты скоро станешь философом, как заговорила! — И, хитро на меня посмотрев, спросила: — Ты все-таки побаиваешься, что он заметит нашу пыльную обыденность? Ну, давай лучше решим, чем мы будем его угощать. Может быть, пельмени с тобою слепим? В нашем городе их не очень-то делают.
— Не-е, мамочка. Это что-то уж очень сытное, грубое. Знаешь, надо, чтоб на столе было все очень красиво разложено по цвету, чтоб стояли цветы и обязательно включить проигрыватель… Моцарта.
— Ты что же, думаешь, что мужчины-философы питаются только цветами и Моцартом? Вот выйдешь замуж… — Мама осеклась. Я поняла, что она опять подумала о том, что Матвей женат.
— Мама, ну, мама, ну перестань, пожалуйста!
— Что перестать?
— Перестань об этом думать. Я же тебе все говорила. Он женат только формально. Просто ему сейчас по каким-то причинам неудобно жене говорить о разводе. И потом, я же не собираюсь замуж. Ну, мамочка, ты же никогда не была у меня, как все взрослые. Ты же современная. Ну неужели человек должен подавлять свои чувства из-за какой-то случайной бумажки? Сначала разводись, а потом влюбляйся.
Я посмотрела на маму и заткнулась. Мама вдруг стала грустная — грустная и задумчивая. Может быть, она подумала о себе и об отце.
— Ну, мама, мы же хотели с тобой быть сегодня веселыми.
— Быть веселыми… Женат только формально…
Мама повторяла мои слова, но я видела, что она что-то очень хочет мне сказать, но не решается, может быть, стесняется, думает, что я еще маленькая.
— Таточка, а тебе не приходило в голову, что жена, может быть, не считает, что это только формально. Тата… Я не хочу тебя обижать, но надо подумать об этом… Может быть, ты крадешь чужое счастье.