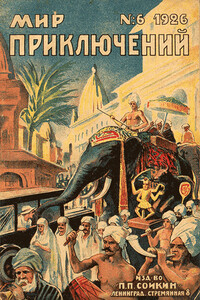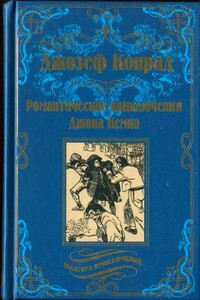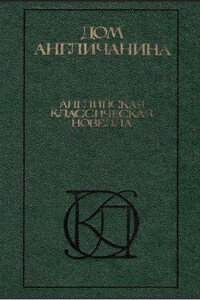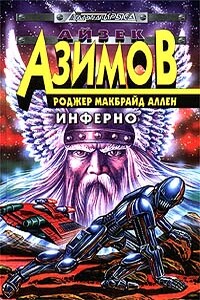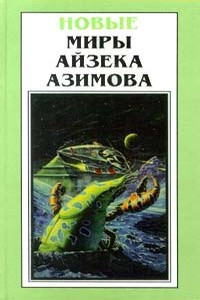Я не посмотрел, но понял, что хотел сказать Томасов. Мы ничего не могли сделать для него. Эта зима мстительной судьбы держала в своих железных лапах и беглецов, и преследовавших их. Сострадание было пустым словом перед этой неумолимой судьбой. Я попробовал сказать что-то про обоз, который должен находиться в деревне, но я замолчал под взглядом Томасова. Мы знали, каковы были эти обозы: жалкие толпы несчастных, которым не на что было надеяться. Казаки гнали их копьями в морозный ад, с лицами повернутыми в обратную сторону от их домов.
Француз вдруг вскочил на ноги. Мы помогли ему, почти не соображая, что мы делаем.
— Идемте, — сказал он с расстановкой, — это как раз подходящий момент.
Он долго стоял молча, потом так же отчетливо:
— Клянусь своей честью, всякая вера умерла во мне.
Голос его вдруг потерял самообладание. Подождав минуту, он добавил шепотом:
— И даже мое мужество… Клянусь честью.
Последовала еще продолжительная пауза прежде, чем он хрипло прошептал с большим усилием:
— Не довольно ли этого, чтобы тронуть каменное сердце? Неужели я еще должен встать перед вами на колени?
Снова наступило молчание. Потом француз крикнул Томасову последнее слово злобы:
— Молокосос!
На лице бедняги не дрогнула ни одна черта. Я уж решил пойти и привести двух солдат, чтобы они отвели несчастного пленного в деревню. Не оставалось ничего другого. Но не прошел я и шести шагов по направлению к группе лошадей и солдат впереди нашего эскадрона… Но вы уж догадались. Конечно. И я тоже догадался, потому что даю вам слово, что звук выстрела из пистолета Томасова был едва слышен. Снег, ведь, поглощает звуки. Пистолет только слабо щелкнул.
Не думаю, чтобы на этот звук обернулся хоть бы один из солдат, державших лошадей.
Да. Томасов это сделал. Судьба привела де-Кастеля к человеку, который понял его. Но жертвой должен был быть бедняга Томасов. Вы знаете, что такое людская справедливость и суд. Все это лицемерие свалилось на него тяжестью. Да, что говорить! Это животное — адъютант первый стал возмущенно распускать слухи про пленника, которого так хладнокровно пристрелили! Томасов, конечно, не получил за это отставки. Но после осады Данцига он попросил разрешения оставить службу в полку и похоронил себя в глуши своей провинции, где много лет с его именем соединяли какую-то таинственную темную историю.
Да. Он это сделал! Но в чем же тут было дело? Один воин сторицей отплатил другому долг, спасая его от судьбы худшей, чем смерть — от потери всякой веры и мужества. Вы, может быть, посмотрите на это с такой стороны. А я не знаю. Да и сам бедный Томасов не знал. Но я первый подошел к далекой группе на снегу. Француз неподвижно лежал на спине, Томасов стоял на коленях, ближе к лицу де-Кастеля, чем к его ногам. Он снял фуражку, волосы его блестели как золото, под легкими снежинками, которые начали падать. Он наклонялся к умершему в нежной, созерцательной позе. Его молодое, невинное лицо, с опущенными ресницами не выражало ни горя, ни суровости, ни ужаса, на нем было спокойствие глубокой, безконечной молчаливой задумчивости.
Рассказ А. В. Бобрищева-Пушкина.
Известный судебный и общественный деятель А. В. Бобрищев-Пушкин, в бурные годы эмигрировавший из России среди миллионов русской интеллигенции, пробыл несколько лет в различных странах и теперь приехал и поселился в СССР.
Редакция приобрела у А. В. Бобрищева-Пушкина 3 рассказа, в художественном преломлении наблюдательного автора характеризующие быт русских интеллигентных эмигрантов.
_____
Эта истории наделала в свое время в Белграде много шуму. Трудно было поверить, между тем улики были налицо. Всеми уважаемый, известный профессор консерватории Виктор Алексеевич Песчанников был уличен в присвоении бумажника.
Правда, профессор жил в бедности, но не в нужде: у него был хоть несколько унизительный, но недурной заработок пианиста в большом кинематографе; кроме того он зарабатывал на отдельных концертах и спектаклях. Еще страннее было то, что в самый день пропажи бумажника Песчанников получил «размен» — ежемесячную ссуду в четыреста динаров, дававшуюся в 1919–1920 годах сербским правительством русским беженцам, а, следовательно, уж никак не мог нуждаться до того, чтобы впасть в преступление. Да и в бумажнике было всего триста четыре динара.