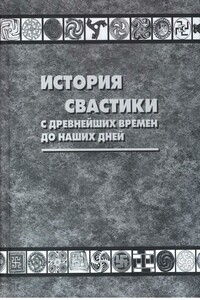С точки же зрения технического прогресса история человечества воспринимается как успешный путь, прямо от каменного рубила к смартфону. Все, что люди изобретали и усовершенствовали по дороге, предоставляло им новые возможности и свидетельствовало о правильности выбранного курса.
Вы еще не забыли, о чем шла речь в главе о новой реальности?
В «пустом мире», когда людей было меньше, а ресурсов больше, технический прогресс прежде всего позволял во много раз увеличить физическую силу человека с помощью машин, приводимых в действие ископаемыми источниками энергии. Таким образом, можно было за все более короткое время вырабатывать все больше товаров все лучшего качества. Техника приводила в движение фабрики, обеспечивала массовое производство и стимулировала экономический рост.
Современное понимание развития исходит как раз из такого механистического представления о прогрессе: основной упор делается на новое, которое резко отличается от старого. Целью развития и в прошлом, и сегодня является экспансия: новое означает больше, под этим подразумеваются большие мощности, больший объем, большее производство.
В условиях «полного мира», где экономика, основанная на ископаемом топливе, уже угрожает существованию человечества, технический прогресс должен обеспечивать еще и интенсификацию: новое теперь означает получение большего из меньшего, то есть обеспечение экономического роста и дальнейшего разрастания без ущерба для окружающей среды. Повышение эффективности считается важнейшей задачей и измеряется не только в денежном эквиваленте, но и в таких показателях, как углеродоемкость и ресурсоемкость производства. Это шаг вперед от Роберта Солоу и взаимозаменяемости природного капитала.
Если кто-либо говорит, что для решения экологических проблем – от изменения климата и вымирания видов до истощения всех природных систем – надо опираться не на государственные запреты и регулирование, а на инновации и технологические прорывы, то в принципе он имеет в виду примерно следующее.
Технический прогресс помог эксплуатировать природу ради экономического роста. Теперь он должен помочь эксплуатировать природу менее интенсивно, не мешая при этом ВВП продолжать расти. Спасти планету, не нанося удара по нашему благосостоянию. Быть устойчивым, ничем не жертвуя. Наоборот, это даже выгодно: потому что даже если цены далеки от того, чтобы отражать истинные экологические издержки, снижение потребления ресурсов в любом случае экономически оправдано. Эта идея о так называемом простом разрыве взаимосвязи долго вызывала у многих восторг, потому что казалось, что он даст возможность достичь необходимых перемен так, что люди этого даже не почувствуют.
Продолжаем как раньше – только с большей эффективностью.
И что, так получится?
Первый намек на то, что одного технического прогресса явно недостаточно, высказал еще 150 лет назад английский экономист Уильям Стэнли Джевонс. Он заметил, что потребление угля в Великобритании в начале XIX столетия резко возросло, хотя Джеймс Уатт уже настолько усовершенствовал свою паровую машину, что для нее требовалось втрое меньше угля, чем раньше. Здесь такая же ситуация, как с электрическими лампочками. Новая техника позволяла экономить ресурсы и поэтому быстро распространялась, что в целом приводило к росту потребления, которое, таким образом, уничтожало результаты экономии или даже превосходило изначальный расход.
«Совершенно неверно считать, что эффективное использование топлива означает уменьшение его потребления, – все обстоит ровно наоборот» [[29] ] – к такому выводу, который назовут парадоксом Джевонса, а позже будут описывать как эффект рикошета, пришел ученый.
Для страны, индустриализация и головокружительный экономический подъем которой во многом зависели от внутренней добычи угля, эта закономерность имела огромное значение: более эффективные машины часто не сокращали потребление сырья – напротив, из-за них снижались цены, а значит, возрастал спрос на товары, производство которых требовало все большей энергии, – так раскручивалась спираль экономического роста. Вместо того чтобы отдалить наступление энергетического кризиса, машины его приближали.