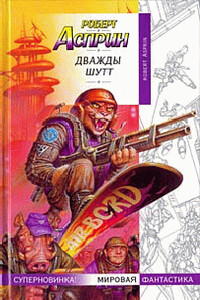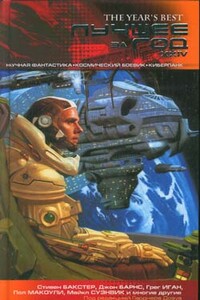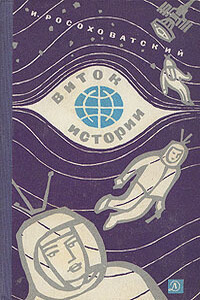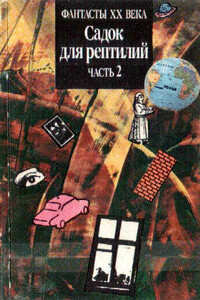Когда наконец мы одолели последний подъем перед котловиной, притом что по обе стороны от нас возвышались километровой высоты горы, мы с Биерис довольно громко ахнули, а у Аймерика вроде бы даже глаза заслезились.
Каньон заканчивался седловиной между двумя могучими обледенелыми пиками. От того места, где наш «кот» выехал на седловину, еще на километр тянулась скальная порода. А ниже этого серого кольца раскинулась огромная темно-зеленая равнина, на которой кое-где пестрели рыжевато-золотистые поля злаков, виднелись светло-зеленые огороды. Равнина тянулась до подножия остроконечных вершин другого, далекого горного хребта. На взгляд, до гор было километров двести.
— Anc nul vis bellazor! — воскликнул я, жадно впитывая взглядом все эти цвета, столь прекрасные и яркие после однообразия Каньона.
— Ver, pensi tropa zenza, — подтвердил Брюс.
Мы с Биерис расхохотались, к нам присоединился Аймерик.
— Понял, Брюс? — проговорил он, смеясь. — Ты только что утратил всякую возможность шпионить за нашими аквитанцами.
— Avetz vos Occitan? — поинтересовалась Биерис.
— Ja, tropa mal, — , вздохнул Брюс. — Практики у меня теперь никакой. Но я решил, что лучше дать вам знать, что я понимаю ваш язык.
— У нас троих практики, как ты помнишь, было хоть отбавляй, — сказал Аймерик.
— Верно. У тебя, у меня и у Чарли. Мы ведь и здесь практиковались предостаточно, забираясь в горы.
Аймерик вздохнул.
— А я почти забыл об этом.
С Аймериком я был знаком на протяжении почти целого уилсонского года — то есть чуть меньше двенадцати стандартных лет — с тех самых пор, как он поселился у нашего семейства после прибытия в Новую Аквитанию. И за все это время я ни разу не слышал, чтобы он говорил о каком-то Чарли — судя по всему, это был их общий друг, который умер в пути, в состоянии анабиоза. Пожалуй, мне не очень пришлось по душе то, что Аймерик склонен так быстро забывать близких друзей.
Брюс кивнул.
— Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, как это нам сходили с рук наши прогулки.
Биерис непонимающе посмотрела на Аймерика, перевела взгляд на Брюса.
— А что, разве прогуливаться — это противозаконно?
— Не противозаконно, но нерационально. После того как ты такое совершил, тебе потом всю жизнь приходится доказывать, что ты не поступил вразрез с планом Господа, — пояснил Брюс, но от его пояснения все только еще сильнее запуталось.
— Но почему же это нерационально? — спросил я. — Всякий, кто бы забрался сюда, мог бы понять, почему вы это делали.
— Эстетика в чистом виде лежит за пределами здравого смысла, — ответил Аймерик.
Сказано это было холодно и противно, и от этого возникло такое впечатление, словно в речи Аймерика появился какой-то особенный акцент. Не знаю почему, но мне показалось, что он подражает чьему-то голосу.
— Поскольку ты не можешь доказать, что это хорошо, все сводится к личным вкусам. А личные вкусы не могут быть определяющими в твоей жизни, — сказал Брюс. — И все-таки нам удалось обойти этот момент. И как только мы до этого додумались, мы превратили наши вылазки в настоящий культ.
Аймерик засмеялся.
— Да-да, мы отправлялись на прогулки куда только могли и при каждой возможности. Мы ухитрились убедить псипов в том, что, если мы будем совершать как можно больше вылазок, коэффициент полезного действия всей колонии жутко возрастет.
— И во время наших трех-четырех последних походов мы уже болтали только по-аквитански, — подхватил Брюс. — Этот язык больше годится для разговоров о красоте. Конечно, то были долгие походы и обзавестись разрешением на них было труднее. Для того чтобы добраться до Содомской котловины, нужно было идти пять дней, или десять местных суток. Кроме того, мы были первыми в Каледонии, кому пришло в голову совершать пешие вылазки, поэтому мы всему учились сами путем проб и ошибок. На самом деле Содомскую котловину трудно назвать подходящим местом для такой учебы — слишком высоко приходилось забираться.
— А на какой мы сейчас высоте? — полюбопытствовала Биерис. — Вернее, на какой высоте мы были, когда… Я хотела спросить, какова та высота, на которой находится перевал?