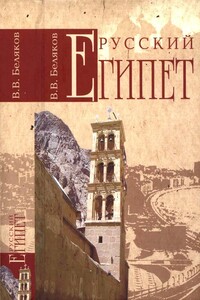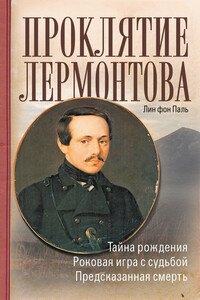«Диктатура сердца». – Пушкинский праздник. – Самовольное присвоение доходов Московского университета. – Катастрофа 1 марта. – Еврейские погромы. – Новый промах во внешней политике. – Столкновение с министрами финансов и иностранных дел. – Смерть Каткова.
Восьмидесятые годы открываются новым политическим преступлением – взрывом в подвалах Зимнего дворца. Катков немедленно высказывается за установление диктатуры и с большим сочувствием встречает назначение графа Лорис-Меликова начальником Верховной распорядительной комиссии. Сам граф в своих беседах с лечившим его доктором Белоголовым высказывался впоследствии в том смысле, что он тогда стоял за «возможно широкое распространение народного образования, за нестесняемость науки, за расширение и большую самостоятельность самоуправления» и т. д. Это настроение графа Лорис-Меликова проявилось и в его деятельности, и мы видим, что сочувствие к нему Каткова быстро охладело. Пользуясь предоставленной печати более значительною свободой, Катков осмеивал графа и иронически называл его систему «диктатурой сердца». И он имел возможность высказываться с полной свободой: как в 1865—1866 гг. министр народного просвещения А. В. Головнин не стеснял злобных выходок Каткова против него, так и теперь граф Лорис-Меликов относился с большим благодушием и незлобивостью к нападкам «Московских ведомостей». «Далась же им эта диктатура сердца! – говаривал он впоследствии. – И неужели Катков серьезно думал меня уязвить такой лестной кличкой, которой на самом деле я могу лишь гордиться, особенно в такое жесткое и злобствующее время, как наше? Да ведь я почел бы для себя самой величайшею почестью и наградою, если б на моем могильном памятнике вместо всяких эпитафий поместили одну только эту кличку».
Однако чувствуя, что сила не на его стороне, Катков, как всегда с ним бывало в подобных случаях, видимо склонен был пойти на компромисс. Осенью 1880 года он уже пишет: «Истории предстоит доказать, что при данных обстоятельствах, быть может, ничего иного не оставалось делать. Пусть же новые люди войдут в государственное дело и примут на себя долю ответственности в нем; пусть они обновят собою старые порядки. Мы первые порадовались бы, если б опыт удался!» Эти слова были написаны после того, как состоялось увольнение министра народного просвещения графа Толстого. Каткову пришлось из наступательного положения, которое он любил занимать, перейти в оборонительное и доказывать, что классическая система неповинна в постоянно возобновлявшихся политических преступлениях. Насколько он в данном случае плыл по течению, показывает и роль, разыгранная им на Пушкинском празднике. Катков тут вдруг вспомнил о давно минувшем времени, когда он на литературном обеде, устроенном по случаю предстоявшего освобождения крестьян, прославлял Кавелина и восторгался мыслью о примирении и соединении всех литературных партий. И теперь, двадцать четыре года спустя, он произнес на литературном обеде по поводу открытия памятника Пушкину речь, в которой сказал: «Кто бы мы ни были, и откуда бы мы ни пришли, и как бы мы ни разнились во всем прочем, но в этот день на этом торжестве мы все, я надеюсь, единомышленники. И кто знает! Быть может, это минутное сближение послужит для многих залогом более прочного сближения в будущем и поведет к замирению, по крайней мере, к смягчению борьбы между враждующими. Буду еще смелее. На русской почве люди, так же искренно желающие добра, как искренно сошлись мы все на празднике Пушкина, могут сталкиваться и враждовать между собою в общем деле только по недоразумению». Но на этот раз речь Каткова не вызвала уже сочувствия. Напротив, она была встречена с ледяною холодностью, и маститый наш писатель Тургенев даже счел нужным отвернуться от протянутого к нему бокала. Затем на торжество, устроенное Обществом любителей русской словесности по тому же поводу, редактор «Московских ведомостей» не был приглашен, и с этого момента начинается окончательное озлобление Каткова против интеллигенции, против суда, «находящегося как бы в оппозиции к правительству», против земских учреждений, «представляющих собою как бы намек на что-то, как бы начало неизвестно чего, как бы гримасу человека, который хочет чихнуть и не может». Правда, он еще одобряет последовавшее в то время упразднение III отделения, но когда возникают студенческие волнения, уже прямо отвечает на вопрос об истинных виновниках этих печальных событий, что виновна «не молодежь, а люди, возбуждавшие и обольщавшие ее, делавшие ее орудием своих интриг, игравшие ею и губящие ее». Но, несмотря на эти резкие выходки против интеллигенции, в тоне его статей уже не чувствуется прежней самоуверенности: видно большое озлобление, но в то же время замечается и недостаток веры в успех своего дела. В этот именно момент разыгрался всем памятный скандал – обвинение Каткова советом Московского университета в том, что он использовал доходы, причитавшиеся университету. Каткову пришлось оправдываться, и он представил длинную объяснительную записку, в которой ссылается на «личную свою известность государю», на «одобрительный отзыв комитета министров» и доказывает, что он не пользовался благорасположением бывшего министра народного просвещения графа Толстого для присвоения себе доходов университетской корпорации. Скандал этот бросил тень на нравственность Каткова как частного лица и мог бы сильно повредить ему в глазах общества, но почти одновременно разразилась катастрофа 1 марта, и о Каткове забыли под впечатлением этого потрясающего события.