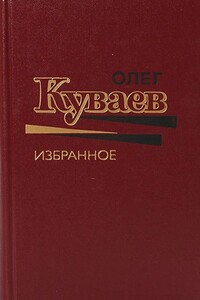«А ты и вправду тут! — воскликнул я. — Чего так рано?»
«Так пришлось», — ответила она неопределенно.
Тогда я поспешил, почему-то веря, что должен доставить ей своим сообщением радость, протянул записку, сказал:
«А на-ка тебе письмецо от одного дяденьки».
Она откинула картошку, так и не откусив от нее, взяла у меня записку, развернула, прочла, и я увидел, как у нее остановились глаза — вот другого сравнения я подобрать не могу, они именно остановились, словно замерли на одной точке, и в них на какое-то время образовалась пустота, потом они снова ожили и лихорадочно снова пробежали по тексту. Елена смяла записку и сунула ее в огонь шумевшего примуса.
«Это же надо, — сказала она, глядя на меня, — надо же… чтоб именно ты-то ее принес».
«Он ответа ждет», — сказал я.
«А пошел!…» — вдруг резко сказала она и быстро вышла из кухни; я не знал, что делать, смотрел ей вслед, да так и не решив, бежать ли за ней, сел к столу и принялся за картошку.
Елена не выходила из своей комнаты, а через час стали возвращаться со смены жильцы дома, и он наполнился разнообразными звуками: кряхтением, стонами, стуком посуды, перекличкой голосов…
А того парня я встретил во второй раз, в тот же вечер, подле клуба. На этой площади, освещенной фонарями под металлическими абажурами, похожими на эмалированные миски, в которых подавали кашу в заводской столовой, закрепленными на высоких деревянных столбах, сосредоточивалась вечерняя жизнь поселка, здесь был не только клуб, а стояли ларьки, торговавшие пивом, газетами, деревянные столы со скамейками, врытыми ножками в землю, где бойкие бабки предлагали семечки, а летом вареных раков и соленую рыбешку, и еще сидел на этой площади хмурый, как ворон, с большим крючковатым и вечно простуженным носом дядя Арсен — чистильщик сапог, работы у него было мало, поселковые жители чистили сапоги сами, и только по праздникам кто-нибудь из модников взгромождался на высокий стул, как на трон, и высокомерно поглядывал на толпу, он был горд, потому что в этот день он себе п о з в о л я л.
И вот в тот вечер я увидел на стуле чистильщика того самого человека, который остановил меня подле дома, он сидел без всякой гордости, ссутулившись в задумчивой позе, перекатывая папироску в губах, и лениво смотрел, как старается дядя Арсен. Я не понимал: зачем этому человеку чистить сапоги, ведь стоит ему сделать несколько шагов, как не миновать лужи, я смотрел на него, и мне начинало казаться, что его загорелое, усмешистое лицо давно мне знакомо, а когда чистильщик закончил свое дело и парень вскинул голову, зачем-то сняв при этом кепку, и на мгновение обнажились его рассыпчатые русые волосы, я вздрогнул: мне показалось — он чем-то похож на Ленушку, только я никак не мог определить, чем именно. Он сунул деньги дяде Арсену; наверное, уплатил ему хорошо, потому что чистильщик даже приподнялся со своего места и несколько раз поклонился парню, но тот уж не смотрел на него, легко спрыгнул со стула, зашагал и в самом деле через лужи к пивному ларьку.
Он увидел меня, но ничем особым не выказал этого, подошел, взял легко за плечо, и я сразу понял его жест, поддался ему, и так мы вместе подошли к ларьку.
«Тебе что-нибудь взять?» — просто спросил он.
Я молчал.
«Налейте кружку пива и стакан крем-соды», — сказал он продавцу.
Я удивился и обрадовался, потому что и в самом деле любил крем-соду; мне казалось, она пахла далекими-далекими странами, где растут и цветут небывалые деревья и травы; я ведь ничего не сказал этому человеку, а он угадал мое желание. Мы стояли рядом и наслаждались каждый своим напитком; он отхлебнул из кружки несколько раз, стер с верхней губы белую пену и неторопливо спросил:
«Что же ответа не принес?»
«А она не дала… Закрылась у себя, и все».
«И все», — повторил он с насмешкой и опять отхлебнул несколько глотков пива, а потом уж снова спросил: «К ней парни-то ходят?»
Я понял, о чем он; если бы это спросил другой или же он сам, но не с той беспечной легкостью, что придавала его словам полную бесхитростность, может быть, я смутился или бы надерзил в ответ, но тут сказал искренне: