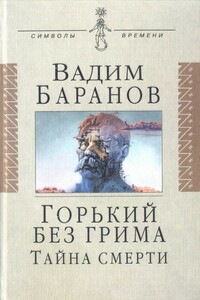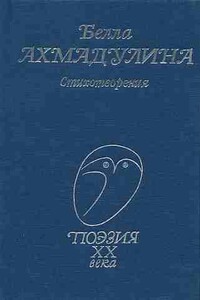Опять мы остались один на один с шариком и как бы в сходных, если не равных, положениях. Сторонние обстоятельства понуждали нас разомкнуть дрёму охранительных ресниц, обнажить устье зрачков, берущих исток во взгорбьях темени, — приглашали задумчивый моллюск на бал погостить на блюде устриц. Втайне я полагалась на участливую подсказку шарика. То, что он имеет врождённые и вменённые ему предсказательные способности, как оказалось, известно не только мне.
Есть брат у шарика. Он — царствен.
Сосуд пророческого шара
в театре, в городке швейцарском
я видела в руке Бежара.
В дырявом одеянье длинном,
дитя умершее качая,
он Лиром был, и слёзы лил он,
и не было слезам скончанья.
Сбывались предсказанья шара,
воображенье поражая,
и было нестерпимо жалко
весь мир, и Лира, и Бежара.
Но я запомнила, как шёл он,
отдав судьбе её трофеи:
в лохмотьях, бывших властным шёлком,
труд тела — краткость и терпенье.
Не мук терпенье, не позора —
мышц терпеливая находка:
не оступиться в след повтора,
всяк шаг — добыча и охота.
Так поступь старого гепарда
тиха, он — выжиданья сгусток,
и тетива спины — горбата,
вобравшая прыжка поступок.
Что нищая падёт корона,
не внове ль зала обожанью?
Кровь творчества — высокородна:
смысл шара, ведомый Бежару…
Да, снежной зимой, в Лозанне, Борис и я видели балетную постановку «Короля Лира» — дерзкую и целомудренную. Уединённость театра казалась преднамеренно отшельной, не зазывной, не отверсто-доступной. Его аскетичные тенистые своды возвышали зрителей переполненного зала до важной роли избранников, соучастников таинственного действа. В премьерном спектакле Лиром был сам Бежар. Его отрешённое лицо не объявляло, не предъявляло силы чувств — только блики, отсветы, сумерки зашифрованных намёков составляли выражение упования или скорби. Его сдержанные, расчетливо малые, цепкие движения словно хищно гнались за совершенством краха, не экономя страсть всего существа, а расточая сё на благородную потаённость трагедии. В правой руке он держал мутно мерцающий стеклянный объём темнот и вспышек, явно предвидящий и направляющий мрачный ход событий. Это был величественный, больший и старший, пусть косвенный, но несомненный сородич моего шарика. Это меня так поразило и отдалило от прочей несведущей публики, как если бы я оказалась забытой в глуши дальней свойственницей Короля Лира и свежими силами моего молодого шарика всё ещё можно было поправить. Моя ревность была уверена (может быть, справедливо), что этот округлый роковой персонаж и труппа, и зрители, если замечают, принимают за декоративную пустышку, за царственную прихоть Бежара. Я еле дожила до разгадки. Один просвещённый господин объяснил мне, что подобные изделия издревле водились в разных странах и название их, в переводе с французского, означает именно то, что я сама придумала: магический, предсказующий, гадательный. Так что не зря я в мой шарик «как в воду глядела», и теперь гляжу.
Из всего этого следует, что поверхность моей жизни всегда обитала на виду у множества людей, без утайки подлежа их вниманию и обзору. Но не в этом же дело. Равная, основная моя жизнь происходила и поныне действует внутри меня и подлежит только художественному разглашению. Малую часть этой жизни я с доверием и любовью довожу до сведения читателей — как посвящение и признание, как скромное подношение, что равняется итогу и смыслу всякого творческого существования.
Конечно, я не гадаю по моему шарику, не жду от него предсказаний. Просто он — близкий сосед моего воображения, потакающий ему, побуждающий его бодрствовать.
Все судьбы и события, существа и вещества достойны пристального интереса и отображения. И, разумеется, все добрые люди равно достойны заботливого привета и пожелания радости — вот, примите их, пожалуйста.
О чём стекла родитель думал?
Предзнал ли схимник и алхимик,
что мир, взращённый стеклодувом,
ладонь, как целый мир обнимет?
Ребёнок обнимает шарик:
миров стеклянность и стократность —
и думает, что защищает
их беззащитную сохранность.
Стекло — молчун, вещун, астролог
повелевает быть легенде.
Но почему о Лире скорбном?
Но почему о Бетельгейзе?