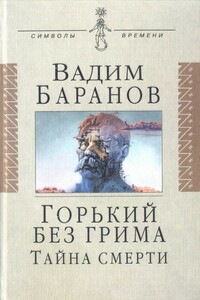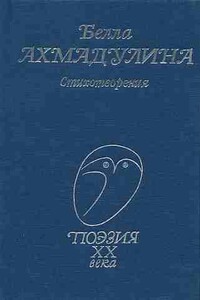с вселенной, заточённой в склянку.
Задумчив шарик и уклончив.
Мне жаль, что он — неописуем.
Но так дитя берёт альбомчик
и мироздание рисует…
Это — не эпиграф, это — начало стихотворения.
Может быть, и впрямь, препона моим стараниям заключена в упомянутом неописуемом шарике? Вот он отчуждённо и замкнуто мерцает передо мной с неприступным выражением достоинства, оскорблённого предложением позировать и подвергать обзору и огласке свою важную тайную суть. Одушевлённая стеклянная плоть твёрдо противится вхожести дотошного ума, хоть они весьма знакомы. Но на что годен сочиняющий ум, который знает, а упорхнувшая музыка о нём знать не хочет, звук — беспечный вождь и сочинитель смысла. Своевольный шарик — не раб мой, угодливо отнесу его в привычные ему покои письменного стола, а сама чернавкой останусь на кухне и начну о нём судачить. Полюбовалась напоследок, напитав его светом лампы, — и унесла.
Как и написано, шарик этот благосклонно подарил мне поэт, в Германии живущий. Он был немало удивлён силой моего впечатления при получении подарка. Умыслом и умением стеклодува, округлое изделие, изваянное его лёгкими, изнутри было населено многими стройными сферами: более крупными, меньшими и маленькими, их серебряные неземные миры ослепительно сверкали на солнце, приходясь ему младшими подобьями. В сердцевине плотно-прозрачного пространства грациозно произрастала некая кроваво-коралловая корявость, кровеносный животворный ствол — корень и опора хрупкой миниатюрной вселенной. Её ваятель с раскалёнными щеками не слыл простаком: и ум знал, и музыка ума не чуралась. И шарик мой был не простой, а волшебный, что не однажды и только что подтвердилось.
Всё это происходило в небольшом немецком городе Мюнстере, населённом пригожими людьми, буйно-здоровыми детьми и множеством мощно цветущих рододендронов. Нарядный, опрятный, неспешный, утешный городок. Если бы вздумала усталая жизнь отпроситься в отлучку недолгой передышки, — лучшего места не найти для шезлонга. Но для этого надо было бы родиться кем-нибудь другим — лучше всего вот этим гармонично увесистым дитятей, плывущим в коляске с кружевным балдахином, свежим и опытным взглядом властелина озирающим крахмальный чепец няньки и весь, услужливо преподнесённый ему, обречённый благоденствию, мир. Или хорошенькой кондитершей, чья розовая, съедобная для ненасытного сладкоежки-зрачка, прелесть — родня и соперница роз, венчающих цветники тортов, сбитых сливок с клубникой и прочих лакомств её ведомства. Или, наконец, вон тем статно-дородным добропорядочным господином, он не из сластён, он даже несколько кривится при мысли о приторно удавшейся жизни, пока запотевшая кружка пива подобострастно ждёт его степенных усов.
Примерка сторонних образов и обстоятельств быстро наскучит, или экспромт сюжета начнёт клянчить углов, поворотов, драматических неожиданностей, что косвенно может повредить облюбованным неповинным персонажам. А у меня всегда, где-то на окраине сердца, при виде чужого благоустройства, живёт мимолётная молитвенная забота о его сохранности и нерушимости.
Шарик сразу прижился к объятию моей ладони, пришёлся ей впору, как затылок собаки, всегда норовящей подсунуть его под купол хозяйской руки. Собака здесь при том, что тёплое стеклянное темя посылало в ладонь слабые внятные пульсы, ободряющие или укоризненные, но вспомогательные.
Пойду-ка верну шарик из полюбовной ссылки, заодно проведаю загривок собаки.
Заведомо признаюсь возможным насмешникам, что часто отзывалась игривости и озорству предметов и писала об этом, как бы вступая с ними не только в игру, но и в переписку. Эти слабоумные занятия не худшие из моих прегрешений, и они несколько оберегли меня от заслуженной почтенной серьёзности.
По возвращении в Москву мы с шариком вскоре уехали в Малеевку, где, вырвавшись в лето, главенствовали и бушевали дети. Мой балкон смотрел на овраг и пруд, в глухую сторону, обратную их раздолью. Чудный был балкон! Он был сплошь уставлен алыми геранями, возбуждённо пламенеющими при закате. Когда солнце заходило за близкие ели, я думала о Бунине. Гераневый балкон я называла Бунинским Днём я выносила на него клетку с любимой поющей птицей. К ней прилетал оставшийся одиноким соловей, и они пели в два голоса. Я рано вставала и плавала в пруду — вдоль отражения берёзы к берёзе. В пятницу — до понедельника — приезжал Борис, с нашей собакой. Я ждала его на перекрёстке в полосатом чёрно-белом наряде, в цвете и позе верстового столба. Борис и собака уезжали ранним утром — я ощущала яркую, как бы молодую, какую-то остро-черёмуховую грусть. Со мной оставались леса и протяжные поля, гераневый Бунинский балкон с оврагом и прудом, книги, перо и бумага, любимая поющая птица и, конечно, стеклянное сокровище — или сокровищница, учитывая насыщенность его недр звёздами, кровянистым коренастым кораллом, тайным умом и явным талантом? Мыслящий одухотворённый шарик был неодолимо притягателен для детей, я этому не препятствовала. Шарик, с некоторой гордой опаской, но всё же уступчиво давался им в руки. Дети, по очереди, выходили с ним в другую комнату, шептались, шушукались, спрашивали, просили, загадывали и гадали. Некоторые их желания сбывались немедленно: в правом ящике стола я припасала для них сладости и презренные жвачки. С небольшой ревностью я просила, как о всех живых тварях: только не тискайте, пожалуйста, не причиняйте излишних ласк. Дети вели себя на диво благовоспитанно, уважительно обращаясь к взрослому шарику полным и удостоверенным именем: Волшебный Шарик. Некоторые из них его рисовали — и получался краткий, абстрактно-достоверный портрет всеобъемлющего свода. Недвижно плывущие в нём сферы нездешних миров они, без фамильярности, именовали пузырьками, что смутно соответствовало неведомой научной справедливости.