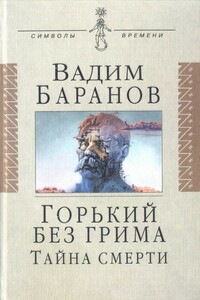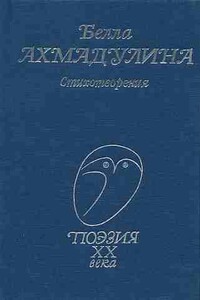…Сначала — музыка. Но речь
вольна о музыке глаголить…
Впервые я письменно обращаюсь не к читателям, а к слушателям. Зачем? И без моего приглашения услышать музыку Вы по-своему и по своему (чуть не написала: усмотрению), по Вашему слуху примете и получите дар этой пластинки, столь долго-долгожданной, столь отрадной и утешительной для меня. Музыка не есть отрада и утешение и не подлежит описанию словами. Дар — нам — Леонида Десятникова отраден и утешителен для меня. Как радостно, просто, легко сразу же ощутить, почувствовать, взять себе в подарок талант другого человека, любить его и любоваться им. Как трудно писать об этом. Говорить было бы легче, и я бы сказала: Десятников, как и подобает музыке, возбраняет нам неуклюжее вмешательство в тайну. Сочинитель музыки дважды и многажды причастен тайнам, неведомым мне. Десятников иронично замкнут в некоторой строгой целомудренной суверенности, запретной для грубой отгадки, ключ к разгадке (не обязательно скрипичный или басовый) — сокровище Вашего музыкального слуха. Я не обладаю таковым, но, как сказал один близкий мне ребёнок, «организм у меня очень слухливый». Слово «организм» нам позволил Пушкин. Слово «обожание» нам позволила Марина Цветаева, чьи слух и слух Вам известны. Вот и пишу: я обожаю всех соучастников пластинки: Леонида Десятникова, Алексея Гориболя, Олега Ведерникова, Полину Осетинскую, Ксению Кнорре. И ещё есть — очень важно, очень есть — в пластинке и везде, не знаю, где, но всегда, весьма сведущие в жизни и смерти, в музыке и поэзии, в иронии и трагедии: Даниил Хармс и Николай Олейников.
Вы — слушайте, Вы — поймёте.
Ваша Белла Ахмадулина
1993
Предисловие к книге Асафа Мессерера
«Танец. Мысль. Время»
Начну с начала, опишу всё по порядку.
Представьте себе человека, который сидит у столь большого окна, что, не поводя головой из стороны в сторону, он не может увидеть всё, что видно в окно.
День сияет, ночь смеркается лишь на мгновение, человек давно уже так сидит, поводит головой из стороны в сторону и видит непомерное множество невской воды и столько обожаемого им города, что этого слишком много для одного взора, для яви.
Загадки никакой: так построен отель, так высоко и велико окно, и человек терзаем избытком того, что он видит, и своим мучительным долгом описывать неописуемое. Человек думает, что Пушкин… В это время звонит телефон, и спрашивают: «Что Вы думаете о Большом театре?» Как, ко всему, что мучит ум, уже болеющий белой ночью, нужно прибавить ещё одно раздумье?
Гаснет купол Исаакия, темнеет в Летнем саду, разводят один мост, другой, краткая темень, и снова во всю величину окна сверкает Нева. Человек улыбается: он ловит себя на том, что вот уже сутки думает о Большом театре, и это совпадает и с Пушкиным, и с тем, что в окне. Стало быть, не только на своей площади, но и в сознании человека воздвигнут Великий театр, и достаточно малого оклика, намёка, и вот он явился перед памятью, перед влюблённым зрением.