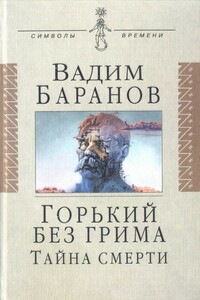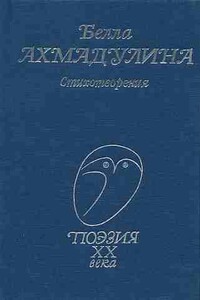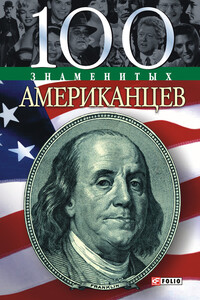«Ну вот, — засмеялся Твардовский, — отправимся мы с вами, как Левша, смотреть заграничные виды».
Парижа, пленительно обитавшего в воображении, я как бы не застала на месте. Нет, Париж, разумеется, был во всём своём избыточном блеске, загодя были возожжены Рождественские ёлки, витрины сияли, беспечные дамы и господа посиживали в открытых кафе. Я двигалась мимо всего этого, словно таща на спине поклажу отдельного неказистого опыта, отличающего меня от прочей публики. Ночью я смотрела в окно на огни бульвара Распай, на автомобили с громко переговаривающимися и смеющимися пассажирами, на высоких красавиц, беззаботно влачивших полы манто по мокрому асфальту, и улыбалась: «Превосходно, жаль только, что — неправда». Опровергая подозрение в нереальности, утром в номер подавали кофе с круассанами, Эйфелева башня и Триумфальная арка были литературны, но вполне достоверны. Меж тем советская делегация привлекала к себе внимание, в основном посвящённое Твардовскому. Каждое утро, в десять часов, в баре отеля его поджидали журналисты. Он отвечал им спокойно, величественно, иногда — раздражённо и надменно: дескать, куда вам, французам, разобраться в наших особых и суверенных делах. На пресс-конференциях наиболее «каверзные» вопросы — главным образом, об арестованных Синявском и Даниэле — храбро принимал на себя Сурков. Его ораторский апломб, ссылавшийся на новые изыскания следствия и точное соблюдение отечественных законов, туманил и утомлял здравомыслие прытких корреспондентов, и они отступались. Торжественное выступление русских поэтов в огромном зале и отдельный вечер Вознесенского и мой прошли с успехом.
Усилиями Эльзы Триоле была издана по-французски обширная антология русской поэзии, её покупали, с присутствующими авторами искали знакомства. Официальным ходом громоздких, пышно обставленных событий, да, по-моему, и всем положением советской литературы во мнении французского общества, единовластно ведала Эльза Триоле, Арагон солидно и молчаливо сопутствовал. Твардовский тайком бросал на них иронические проницательные взгляды. Эльза Юрьевна не скрывала своей неприязни ко мне: на сцене приостановила моё, ободренное аплодисментами, чтение, потом, у неё дома, когда Кирсанов, переживавший её ко мне немилость, попросил меня прочитать посвящение Пастернаку, с негодованием отозвалась и о стихах, и о предмете восхищения. Всё это не мешало мне без всякой враждебности принимать её остроту, язвительность, злоязычие за некоторое совершенство, точно уравновешивающее обилие обратных качеств, существующих в мире. Она удивилась, когда я похвалила её перевод «Путешествия на край ночи» Луи Селина, тогда мало известный.
Вынужденно соблюдая правила гостеприимства, Триоде и Арагон пригласили меня и Вознесенского на премьерный концерт певца Джонни Холлидея. Среди разноликой толчеи, сновавшей вокруг нашей группы, выделялась экспансивная дама русского происхождения. Восклицая: «Наш Трифоныч!», она постоянно норовила обнимать и тискать Твардовского, от чего он страдальчески уклонялся. Она объявила мне, что появиться в театре «Олимпия» без шубы — неприлично и позорно для нас и наших пригласителей. Обрядив меня в своё норковое манто и атласные перчатки, она строго напутствовала меня: «Не вздумай проговориться, что манто — не твоё». Наши места были на балконе, и сверху я с восхищением озирала парижские божества, порхающие и блистающие в партере при вспышках камер. Эльза Юрьевна утомлённо прикрыла рукой лицо от одинокого фотографа «Юманите». С пронзительной женственностью оглядев меня, она тут же спросила: «Это манто вы купили в Париже?» — «Это не моё манто», — простодушно ответила я, о чём, неодобрительным шёпотом, было доложено Арагону. Жалея бумаги, всё же добавлю: в Москве я должна была передать маленькую посылку сестры Лиле Юрьевне Брик. Было очень холодно, и моя приятельница закутала меня в свой каракуль. «Это манто вы купили в Париже?» — незамедлительно спросила Лиля Юрьевна. Ответ был тот же. Сразу зазвонил телефон из Парижа, и в возбуждённой беседе сестёр слово «манто» было легко узнаваемо.