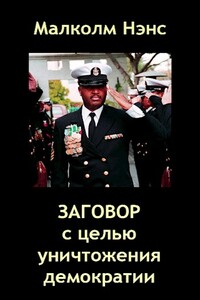Забайкальский «сиделец» М. Б. Ходорковский, по сути, открыто признавал управляемость взаимосвязи правого и левого начал, предположив в конце 2008 года, что наступает время «новых социалистов», которых к 2015 году сменит очередной, теперь уже «неонеолиберальный» тренд>125.
А что такое глобализация? Если отжать ее многочисленные, пространные и велеречивые определения в «сухой остаток», получим корпоративную глобальную институционализацию, то есть некий опять-таки управляемый процесс, центральным звеном которого является строительство частных глобальных институтов.
Известный ученый-международник О. Н. Барабанов указывает, что институциональной формой и функцией глобализации является система глобального регулирования, включающая две составляющие — глобальное управление и глобальное сотрудничество>126. Насколько глубоким является этот вывод, мы сможем убедиться, когда приступим к рассмотрению институтов «устойчивого развития». Одним из первых, что мы там обнаружим, будет одноименная Комиссия по глобальному управлению и сотрудничеству.
Антиглобализм против глобализма — это публично провозглашенное в Копенгагенской декларации Всемирного саммита 1995 года [Прил. 2] «демократическое и социальное» измерение глобализации, глобального управления, «устойчивого развития» и т. д., против его же «неолиберальной и рыночной» версии, «отлитой в граните» полузакрытым докладом «Наше глобальное соседство». А «альтерглобализм» потому и называется «альтернативным» глобализмом, что выступает не против глобализации вообще, а за «иную стратегию глобализации <...> — гуманистическую, <. > ведущую к формированию глобального гражданского общества»>127. Глобальное же «гражданское общество», как убедимся в § 9.3, — «отлитый в том же граните» тезис того же самого доклада.
Помимо институциональной стороны вопроса, у глобализации имеется и социально-психологическая сторона, на которую указывает В. В. Аверьянов:
«Весьма любопытную трактовку (глобализации. — Авт.) предложили М. Хардт и А. Негри в своей нашумевшей книге-бестселлере („Империя". — Авт.), в которой речь идет не о тех империях, которые были, а о той империи, которая грядет. У них получается, что сама транснациональная система, сама глобализация представляет собой итог развития всех империй. Эта мысль очень интересная, мне кажется, что наши националисты должны были бы как-то отреагировать на эту книгу <...>. „Наиболее важный сдвиг, — пишут авторы „Империи", — происходит в самом человечестве, ибо с окончанием современности (эпохи Модерна. — Авт.) также наступает конец надежде обнаружить то, что могло бы определять личность как таковую. <...> Здесь и возникает вновь идея Империи, не как территории, не как образования, существующего в ясно очерченных, определенных масштабах времени и места, где есть народ и его история, а скорее как ткани онтологического измерения человека, которое тяготеет к тому, чтобы стать универсальным".
Эта сетевая, нетократическая империя порождена тем, что, на мой взгляд, (sic!) глобализация, упершись в пределы географии, перенаправлена вглубь и начинает перестраивать саму сущность человека, поскольку в физическом пространстве и в истории обществ и экономик у нее остается слишком мало пищи. Главным полем битвы становится теперь духовная культура и те границы (национальные, религиозные, языковые), которые сохранялись до сих пор как структура различия между традициями, многообразия образцов слова, поступка и даже бездействия и молчания. Глобализация (sic!) подступилась к той внутренней свободе, которая всегда оставалась интимной и потому неприступной для коллективных „левиафанов" стороной человеческого бытия, той свободе, что расцветала благодаря деспотии и вопреки эмансипации»>128 (выдел. в тексте. — Авт.).
Следующая группа терминов, отражающих различные категории «управления развитием», относится к идеологическому обеспечению этого процесса. Первый в этом списке — мультикультурализм, представляющий собой, как мы уже отмечали, политическое измерение другого хорошо известного нам термина — «толерантности», или терпимости.