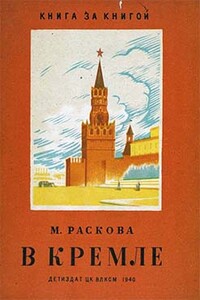Радующегося фашиста мы вообще терпеть не могли. Казалось, что он смеется, довольный успехами гитлеровцев на фронте. И наоборот, когда немец был расстроен и зол, - даже если он срывал на нас свою злобу, - было куда легче.
- Дают им наши жизни! - говорили мы в таких случаях и часто оказывались правы. Как ни старались немцы скрыть от нас новости с фронта, обращение с пленными выдавало их с головой.
Комендант лез из кожи вон, чтобы казаться бравым офицером, однако сама внешность его говорила, что он не только не бывал на фронте, но и не проходил строевой подготовки.
Нас привели к маленькому домику и стали по одному пропускать внутрь. Через некоторое время мы с Володей тоже оказались в помещении.
Прежде всего здесь бросался в глаза фотоаппарат на штативе, установленный посреди комнаты. Какой-то немец взял меня за плечо и подвел к аппарату. Он сунул мне в руку черную дощечку и написал на ней мелом мой номер. Меня сфотографировали. Потом повернули боком и засняли в профиль. То же самое проделывали с каждым, кто был на очереди.
Я подошел к столу, вокруг которого сидели упитанные не в меру немцы, сбоку стоял переводчик.
Один из толстяков почему-то очень внимательно разглядывал меня, то снимая, то опять надевая очки. Он побарабанил жирными пальцами-коротышками по папке с зеленым верхом, потом откинул голову назад и облизал губы.
От этой затянувшейся паузы мне стало не по себе. Не знаю, что было на уме у гитлеровца, но если бы он смог прочесть роившиеся в моей голове мысли, то мне, пожалуй, в тот же день накинули бы петлю на шею.
Долго мы с немцем смотрели друг на друга, и наконец тот приступил к делу. Взяв одну из карточек, кипой лежавших на столе, он положил на нее руку и неожиданно рявкнул:
- Наме!
- Как фамилия? - спросил переводчик.
Карточка содержала вопросы обо всем: где военнопленный родился, сколько ему лет, женат ли он, в каких частях служил, верует ли в бога и т. д.
Толстяк опросил меня, записывая все ответы, и карточку передали на другой столик. Там пожилой немец, завернув обшлага моей шинели, взял меня за руки и прижал все десять пальцев к пропитанной краской - наподобие штемпельной - подушечке. Потом приложил пальцы к карточке, в которую были занесены мои ответы. На бумаге осталось десять черных пятен - оттиски моих пальцев.
- Гут, - буркнул пожилой немец и отложил мою карточку в сторону. За мной последовал к столу Володя.
Мы вышли во двор.
- Ну вот, - заговорил кто-то, - гестапо и снимочки наши приобрело себе на память. Теперь имена наши будут хранить в несгораемых ящиках...
- Ладно, не наводи тоску, без тебя тошно! - обрезал его Володя.
Разговор оборвался.
Затеянную немцами регистрацию мы восприняли как тяжелую неожиданность. И без того измученные позором плена, мы еще острее почувствовали собственное бессилие. Казалось, мы так навсегда и останемся невольниками.
Нас опять повели куда-то и остановили возле домика, из трубы которого вился черный дым.
- Кухня, - сказал один из наших товарищей. Он не ошибся. Мы получили тут по пол-литра "баланды". Это варево, которое считалось в лагере едой, состояло из воды и небольшого количества капустных листьев, репы и почерневшей картошки. Оно было почти не посолено.
Мы быстро опорожнили котелки, но остались голодными.
- А были ж, братцы мои, денечки, - заговорил один из пленных, ударив ложкой по котелку, - бывало, поднесет тебе женушка такого, я те скажу, супу, аж аромат по всей избе идет. И скажет, бывало, садись, мол, милый, а то, небось, есть захотел...
Рассказчик замолк и снова постучал ложкой по котелку, как будто он и в самом деле собрался хлебать суп, который только что налила жена.
- Ну, и что же потом? - спросил Володя. Ему, видно, хотелось еще послушать про еду.
- Что потом? - отозвался рассказчик. - А потом, браток, берешь эдак вот ложку в руку, набьешь полон рот хлеба и давай хлебать. Выхлебаешь тарелку, выхлебаешь другую...
- А то не заметишь, как и третью... - вставил было кто-то, но на него сразу цыкнули:
- Не перебивай, когда человек говорит, дай досказать.
Рассказ про домашний обед уже захватил всех.