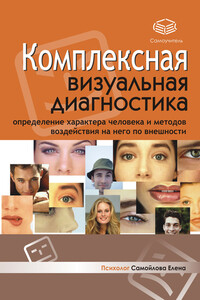Конечно, и внутри самой диалогической парадигмы неизбежны эксцессы натуралистического мышления и адекватного ему механического действования, и тогда упование психотерапии вновь начинает растягиваться по отдельным полюсам. Тогда на полюсе пациента обнаруживается «внутренний диалог», организация, стимулирование и усовершенствование которого и мыслится, собственно, как процесс, обеспечивающий психотерапевтический результат. На другом полюсе, который может быть представлен радикальными адептами НЛП, упование вообще перетягивается на действия терапевта, так что любой неуспех терапии квалифицируется просто как неумение или ошибка психотерапевта. Тем самым неявно утверждается предельная вера в технологию, которая, нивелируя сразу две личности — и терапевта, и пациента, объявляется принципиально самодостаточной и стопроцентно гарантирующей успех, если соблюдены все операциональные инструкции. Разговоры о каких-то тайнах и глубинах личности психотерапевта и личности пациента, которые могут вопреки технологии сказать свое последнее слово, иронически объявляются с позиций радикального коммуникативного техницизма нелепым оправданием собственной неумелости, равносильным ссылкам механика, неспособного отремонтировать автомобиль, на «капризы» двигателя (Бандлер, Гриндер, 1995).
Если попытаться бросить общий взор на все эти исторически сменяющие друг друга психотерапевтические упования, то мы заметим, что при появлении каждого следующего предыдущие вовсе не выходят из обращения в мире психотерапии. Среди пестрых флагов психотерапевтических школ до сих пор можно встретить такие, которые несут на себе те же самые девизы, что были начертаны на знаменах раннего психоанализа или психодрамы. Появляются и системы, дающие новые версии старых упований. Так, например, когнитивная психотерапия при всей ее чуждости психоанализу в известном смысле является дериватом психоаналитического упования на процесс осознания, возлагая надежду в своей практике на то, что осознание «автоматических мыслей» и разного рода «пред-рассудков» может восстановить адекватное мышление пациента.
Сейчас наблюдается все более заметная эклектическая тенденция. Различные психотерапевтические школы, сохраняя номинальную организационную обособленность и держась институциональных барьеров, сближаются по своему составу, технике и теории, многое заимствуя, а многое открывая независимо друг от друга. Эта эклектическая тенденция касается и того параметра организма терапевтической школы, который мы назвали «упованием». Многие направления, претерпевшие особенно бурное развитие в последние десятилетия, одновременно опираются сразу на несколько упований. Например, эриксонианская гипнотерапия достигает блестящих психотерапевтических результатов за счет комбинирования двух из проанализированных упований — внушаемости и переживания. Индирективный гипноз М. Эриксона создает такое состояние сознания пациента, в котором интенсифицируются, буквально расцветают внутренние процессы продуктивного переживания пациента. Вводимые психотерапевтом в виде метафор, притч и анекдотов терапевтические установки и образы релевантны этому живому процессу переживания, опосредствуют его и именно поэтому оказываются настолько действенными в отличие от прямолинейных внушений старой, дофрейдовской суггестивной психотерапии, молчаливым условием которой являлся отказ пациента от своего знания, своей воли и своих чувств, — словом, в известном смысле отказ от своей личности. Новая ин-директивная гипнотерапия как раз создает благоприятнейшую среду обитания для переживания пациента, то есть для того внутреннего интимного личностного процесса, по которому человек понимает, что это именно он живет. Эриксонианская гипнотерапия открыла методы внушения, обходящиеся без порабощения личности пациента.
Хотя эклектические и интегративные тенденции порождают все новые сложные комбинации и создают все новые варианты психотерапевтического искусства, наряду с ними продолжают воспроизводиться и древние, примитивные формы, которые, казалось бы, давно должны были стать уделом психотерапевтической палеонтологии. Более того, по своей жизнестойкости и массовости они не только не уступают более развитым и тонко организованным психотерапевтическим организмам, но порой начинают захлестывать и покрывать собою всю ту область, которая в сознании широкой общественности ассоциируется со словом «психотерапия». Самым наглядным примером этого рода может служить грандиозная империя кодирования, зародившаяся в захолустной Феодосии и покрывшая собой все пространства бывшего СССР. Такая скорость распространения этой примитивной формы психотерапии, такие финансовые обороты, которые, собственно, и привлекают из врачей и психологов все новых и новых рекрутов, являются чрезвычайно интересным материалом для социологического и социально-психологического анализа сознания современного постсоветского обывателя. Мы же с точки зрения проблемы упований психотерапии должны отметить, что так называемый метод кодирования является рецидивом самого старого из психотерапевтических упований — внушаемости.