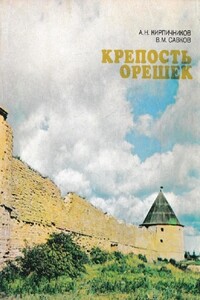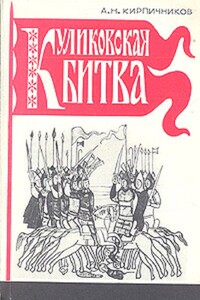3. Хотя «город» Колы строился в начале XVIII в. по существу заново, он в основном сохранил структуру острога XVII в. Его особенности определялись сочетанием в нем двух функций — пограничной крепости и торгово-промыслового комплекса.
4. Не осуществленный замысел укрепления ближайших подступов к Коле и сооружение на стрелке Кольского мыса небольшой, оснащенной артиллерией земляной крепости показывают, что в общей системе оборонительных сооружений района, Кольский деревянный «город», сочетавший черты крепости и гостиного двора, должен был играть своеобразную роль укрепленной торговой фактории на побережье «Студеного моря» и служить убежищем населению, с его пожитками, на случай военной опасности.
5. Сочетание в деревянном «городе» Колы военно-оборонительных и торгово-хозяйственных функций показывает, что уже в XVII в. начался процесс постепенного перерождения крепостей в сооружения, обслуживавшие хозяйственно-бытовые нужды парода. Этому содействовал другой процесс — смена крепостей с башнями крепостями с бастионами (так называемой «вобановской» системы).
6. Хотя в русском оборонном зодчестве XVII в. наметились, а в начале XVIII в. уже разграничились две основные линии развития, одна из которых, приблизившись к чисто инженерному строительству, привела к появлению новой отрасли военного искусства — долговременной фортификации, а другая, сомкнувшись с архитектурно-строительным искусством, завершилась созданием обширных, чисто гражданских зданий — гостиных дворов и торговых рядов, — деревянный «город» Колы начала XVIII в. показывает, что в практике северных мастеров-плотников были еще живучи древние строительные приемы и принципы. Это еще раз подтверждает положение о многовековой устойчивости и живучести древних традиций русского деревянного зодчества.
Приложение 1
Роспись пушечного наряда, составленная в марте 1686 г. при приеме Кольского острога Иваном Григорьевичем Чертенским у воеводы Зота Ивановича Полозова
ЦГАДА, ф. 137, Городовые и боярские книги, № 2.
(В сносках приведены разночтения: а) по росписи, составленной в феврале 1681 г. при приеме острога Василием Ивановичем Эверлаковым у воеводы Павла Григорьевича Чирикова (находится там же, лл. 2–5 об.); б) по росписи, составленной в марте 1688 г. при приеме острога Иваном Петровичем Одинцовым у воеводы Ивана Григорьевича Чертенского (находится там же, лл. 95–98 об.); и в) по росписи, составленной в августе 1699 г. при приеме острога Григорием Никитичем Козловым у стрелецкого головы Осипа Деревецкого (находится там, же № 1, лл. 1–3 об.).
|л. 51 об.| На Николской башни в нижнем бою пять пушек железных на колесных станкех в одном станку гвоздя нет[998]. Да пушка железная дробовая на лисице. Да пушка ж лоде[999] дробовая ж[1000] железная. На той же башни в верхнем бое две пушки железных на колесных станкех[1001], да пушка медная[1002].
У медной|л. 52 | пушки в станку дву петель да дву гвоздей нет[1003]. На Угловой башни, что за воевоцким двором в нижнем бое три пушки железных на колесных станкех[1004], пушка железная на лисице[1005]. На той же башни в середнем бою пушка железная на колесном станку. На той же башни в верхнем бое две пушки железных на колесных станинех.
|л. 52 об.| На Ерзовской башни в нижнем бое три пушки железных на колесных станкех, в в станку дву гвоздей нет[1006]. На той же башни в середнем бое пушка железная на колесном станку, да пушка железная ж[1007] на лисице малая. На той же башни в верхнем бое две пушки железных на колесных станкех. На Георгиевской[1008] башни в нижнем бое четыре пушки же|л. 53|лезных на колесных станкех. Пушка дробовая железная на колоде, пушка железная на лисице малая. На той же башни в верхнем бое пушка медная да две пушки железных на колесных станкех. У медной пушки в станку трех гвоздей да петли нет[1009]. На Водяной башни в нижнем бое две пушки железных на колесных станкех, в станкех[1010] дву гвоздей|л. 53 об.| нет. Да пушка железная на лисице. На той же башни в верхнем бое две пушки железных на колесных станкех пушка железная на лисице. На зелейном погребе