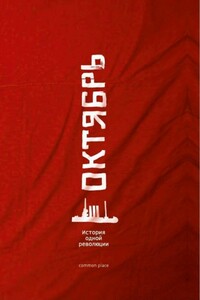После небольшой передышки король велел позвать герцога Мэнского и графа Тулузского, попросил тех немногих, кто был в спальне, выйти и закрыть двери; этот разговор втроем продолжался довольно долго. Когда он был закончен и все вернулись в спальню, король послал за герцогом Орлеанским, который находился у себя. Говорил он с ним недолго, а когда тот выходил, попросил вернуться и сказал что-то еще, но это заняло совсем мало времени. Тогда же он распорядился, после его смерти перевезти будущего короля в Венсен, где очень хороший воздух, на то время, пока не будут завершены все траурные церемонии и дворец после них не будет очищен, и лишь после этого дофин может вернуться в Версаль, назначенный ему резиденцией. По-видимому, король прежде поговорил об этом с герцогом Мэнским и маршалом де Вильруа, потому что после ухода герцога Орлеанского распорядился обставить Венсенский замок и привести его в порядок, чтобы там незамедлительно смог поселиться его наследник. Герцогиня Мэнская, которая до сей поры не побеспокоилась выехать из Со, где приятно проводила время в обществе, наконец-то прибыла в Версаль и попросила у короля дозволения на миг повидаться с ним, как только он покончит с распоряжениями. Она уже находилась в приемной, вошла и через минуту вышла.
Во вторник 27 августа в королевскую спальню вошли только о. Телье и г-жа де Ментенон, а во время мессы — кардинал де Роган и два очередных священника. Около двух король послал за канцлером и в присутствии г-жи де Ментенон приказал ему открыть два ларца, полные бумаг, одни из которых велел сжечь, а относительно других дал распоряжения, как с ними поступить. Около шести часов вечера он вновь потребовал к себе канцлера. Г-жа де Ментенон в течение всего дня не выходила из спальни, а входили туда лишь лакеи да временами слуги, в которых была необходимость. К вечеру король велел позвать о. Телье и почти сразу после беседы с ним послал за Поншартреном, которому отдал распоряжение перенести его сердце сразу же после смерти в церковь иезуитской конгрегации в Париже, поместив оное рядом с сердцем короля, его отца, и точно таким же образом. Чуть погодя он вспомнил, что Кавуа, обер-гофмаршал, никогда не распределял комнаты придворным в Венсене, потому что вот уже пятьдесят лет двор ни разу не находился там; он указал шкатулку, в которой лежал план Венсен-ского замка, велел взять ее и отнести Кавуа. Немного спустя после этих распоряжений король сказал г-же де Ментенон, что он слышал, будто трудно примириться со своей смертью, а вот он в сей роковой для человека час видит, что это, оказывается, не так уж и страшно. Она ему ответила, что умирать страшно, когда либо чувствуешь в душе привязанность или ненависть к людям, либо чего-то не сделал. Король заметил: «Никому из людей я уже ничего не должен, а относительно же того, что я должен сделать для государства, надеюсь на милосердие Господне». Ночь была очень неспокойная. Слуги видели, как король то и дело складывал руки, и слышали, что он читает молитвы, которые обыкновенно читал, когда был здоров, и, произнося «Confiteor»,[39] ударяет себя в грудь.
В среду 28 августа король дружески разговаривал с г-жой де Ментенон, но ей его слова не слишком понравились, и она ничего на них не ответила. Он сказал ей, что, оставляя ее, утешается тем, что ввиду ее возраста они скоро встретятся. Около семи утра он призвал о. Телье, и, когда тот толковал ему о Боге, король увидел в каминном зеркале, что в ногах у него на постели сидят двое слуг и плачут. Он обратился к ним: «Почему вы плачете? Неужели вы считали, что я бессмертен? Я-то так никогда не думал, и вы, зная, в каком я возрасте, должны были бы приготовиться к тому, что меня не станет».
Некий неотесанный мужлан-провансалец по пути из Марселя в Париж услыхал, что король при смерти, и в это утро явился в Версаль со снадобьем, которое, по его словам, вылечивает гангрену. Королю было до того плохо, а врачи совершенно не знали, как ему помочь, и потому без сопротивления в присутствии г-жи де Ментенон и герцога Мэнского согласились испробовать снадобье; Фагон пытался что-то сказать, но этот мужлан, именовавшийся Лебреном, грубо отбрил его, отчего Фагон, привычный обрывать других врачей, встречая в ответ лишь почтение, граничащее с трепетом, даже обомлел. И вот около одиннадцати часов утра королю дали десять капель этого эликсира в вине из Аликанте. Какое-то время он чувствовал себя гораздо лучше, но потом пульс замедлился и стал весьма слабым; около четырех ему вторично дали это снадобье, сказав, что оно должно вернуть его к жизни. На что, принимая бокал с лекарством, он ответил: «К жизни или к смерти, как будет угодно Господу». Г-жа де Ментенон вышла от короля с опущенной вуалью в сопровождении маршала де Вильруа, который шел впереди нее, и, не заходя к себе, спустилась по большой лестнице, после чего подняла вуаль. Не проронив ни слезинки, она поцеловала маршала, сказав: «Прощайте, господин маршал», села в королевскую карету, которой всегда пользовалась, где ее ждала одна г-жа де Келюс, и поехала в Сен-Сир, а следом покатила ее собственная карета, в которой сидели ее служанки. Вечером у себя герцог Мэнский открыто потешался над столкновением Фагона с Лебреном; все только и говорили о его поведении, обсуждали также поведение г-жи де Ментенон и о. Телье в эти последние дни короля. Эликсир Лебрена продолжали давать королю, и он сам наблюдал, как король принимает его. Когда же короля спросили, не хочет ли он бульона, он ответил, что с ним уже пора говорить не так, как с другими людьми, и нужен ему не бульон, а духовник, и велел позвать о. Телье. А однажды, очнувшись после беспамятства, он попросил о. Телье дать ему полное отпущение грехов, и тот спросил, очень ли ему больно. «Нет, — ответил король, — и это-то меня огорчает. Мне хотелось бы, чтобы боль была сильней и искупила мои грехи».