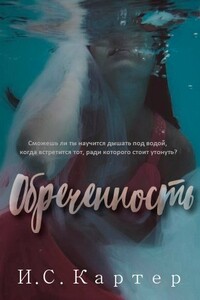– Неуютно? – Брокк держался рядом. Кэри не нужно было оборачиваться, чтобы ощутить его присутствие.
– Нет… просто… вы не думали, что дома похожи на своих хозяев?
– Продолжайте, – попросил Брокк. – Как вам мой дом?
– Замкнутый.
Заперты шторы: дом боится впускать солнечный свет. Он защищается от мира тонкой тканью гардин и мутными старыми стеклами, бережет себя от сквозняков, но те все равно проскальзывают, вьются по елочке паркета, тревожат пламя в очагах. А оно, запертое, отгороженное коваными решетками, мечется, норовя вырваться из плена. И если это произойдет, дом вспыхнет…
– Замкнутый. – Брокк стянул перчатки, обе, но, опомнившись, вновь спрятал руку.
Стыдится ее?
Пожалуй.
– Скорее дом просто-напросто старый…
– И тот, в котором я жила раньше, был немолод. По-моему, все родовые дома стары.
…И в чем-то похожи друг на друга, но в то же время и различны.
– И каким он был?
Брокк сам снял с Кэри шапочку и ее муфту, мягкую, но совершенно не греющую. Только здесь, в доме, Кэри поняла, насколько продрогла. И выглядит наверняка отвратительно…
…а его любовница, должно быть, красива.
– Двуличным.
Брокк попросту вытряхнул ее из пальто и волосы пригладил неловким жестом, и сам же смутился, отступил.
– Объясните?
– Подделки… под позолотой – латунь. Под серебром – железо. Фальшивые картины… и вещи тоже… вазы… статуэтки… когда-то все было дорогим, настоящим, но отец много играл и много проигрывал. Сверру тоже нужны были деньги. Но леди Эдганг не могла позволить, чтобы пошли слухи о… непростом положении рода. Она приказывала делать копии с картин, а оригиналы продавала… или драгоценности… оставалась оправа, а камни заменялись на дешевые. Весь дом был таким. Понимаете?
– Понимаю.
Вечером он вновь уйдет, сославшись на неотложные дела, а то и вовсе не сказав ни слова. И будет ужин в пустой столовой, нарочитая вежливость прислуги и собственное притворство.
– Что-то не так?
– Все в порядке, – солгала Кэри, отстраняясь.
Если попросить, Брокк останется, но… имеет ли она право мешать ему? Он же не спешит уходить. Разглядывает и вновь хмурится.
– Вам надо согреться.
– Вином? – Улыбка вышла зябкой.
– Вам не понравилось?
– Нет, но… просто…
Сверр не разрешал Кэри пить, разве что на ее день рождения, до которого осталось не так уж и много. И этот день ничем не будет отличаться от прочих.
– Есть кларет. И яичный ликер. Кофейный, опять же. Моя мама его любила.
Она ушла, когда Брокку было двенадцать, и, наверное, это тоже предательство, куда как болезненное. На собственную мать Кэри не держала зла, хотела, но не получалось. Иногда Кэри принималась рисовать себе ее, женщину необычайной красоты, ведь иначе отец не взглянул бы на нее. Но женщина, несмотря на все усилия, получалась безликой.
– Садись.
Брокк передвинул кресло к огню, а когда Кэри села, набросил на колени плед и бокал подал.
– Белое. Попробуй.
От вина исходил мягкий аромат винограда и, пожалуй, свежескошенной травы.
Кисловатое.
Легкое.
И оставляющее пряный привкус, который долго держится на языке. И Кэри наслаждается им, чувствуя себя совсем взрослой. А Брокк сквозь линзу бокала разглядывает пламя. Пауза длится, но оборвавшийся разговор не тяготит, скорее уж нынешнее молчание естественно. И Кэри наслаждается им, вином и теплом, не-одиночеством.
И когда бокал пустеет, она решается задать вопрос:
– Почему вы стали мастером?
– Потому что хотел сделать мир лучше. – Брокк пропускает ножку бокала меж пальцами, и стеклянная чаша его ложится в ладонь. – Мне казалось, что у меня получится создать что-то по-настоящему значимое. Великое. Дед не одобрял, но и мешать не мешал, говорил только, что мне следует о другом думать. А у меня не получается. Это как зуд, только в голове. – Он зажал между пальцами прядь волос и потянул. – Все время то одно, то другое. Иногда и видишь что-то… не знаю, как объяснить. Бывает, что сутки напролет не отпускает, пока работать не начну. И только тогда становится легче. Я сумасшедший?
– Разве что совсем немного.
…Он не знает, что такое настоящее безумие.
Светлые глаза, которые наливаются кровью. Зрачок сужается до черной точки. И пульс ускоряется неимоверно. Сердце грохочет в груди, и каждый толчок его слышен.