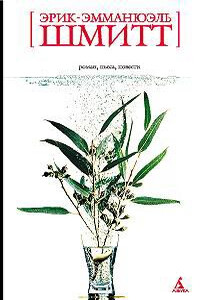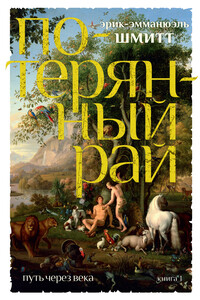Невозможно было спокойно гулять в этом хаосе, пробираясь между отдыхающими, между собаками, которых не допускали на пляж и которые все равно рвались туда, натягивая поводки, между арендованными велосипедами, застревавшими в густой толпе, и педальными автомобильчиками, которые не продвигались вовсе, – я рассматривал все это как наглое вторжение. Странное дело: по какому праву я употребил именно это слово? С какой стати позволил себе считать приезжих варварами, если сам пожаловал сюда всего несколько дней назад? Неужели тот факт, что я поселился в доме Эммы Ван А., превратил меня в горячего патриота Остенде? Ладно, пусть будет так. Мне казалось, что вместе с моей хозяйкой у меня отняли и мой Остенде.
Вот почему я с огромной радостью увидел подъезжавшую к вилле «Цирцея» машину «скорой помощи», которая доставила Эмму домой.
Санитары внесли ее в холл вместе с инвалидным креслом, Герда налетела на тетку с разговорами, и мне показалось, что старая дама тяготится этой болтовней: она то и дело поглядывала на меня, как бы прося остаться, не уходить.
Когда Герда отправилась на кухню готовить чай, Эмма Ван А. повернулась ко мне. В ней чувствовалась какая-то перемена, словно она приняла важное решение.
Я подошел ближе.
– Как вам лежалось в больнице?
– Да ничего особенного. Впрочем, тяжелее всего было слушать, как Герда звякает спицами у моего изголовья. Не правда ли, трогательно? Когда у Герды выдается свободная минутка, она, вместо того чтобы взять книгу, вышивает, орудует спицами – мучает шерсть, так я это называю. Терпеть не могу «рукастых» женщин. Да и мужчины их не выносят. Хотя, знаете ли, на севере Ирландии, на Аранских островах, живут крестьянки, которые тоже любят вязать. Их мужья-рыбаки либо совсем не возвращаются, либо возвращаются вместе с обломками своих лодок, разбухшие от воды, изъеденные солью, и тогда жены признают их только по рисунку вязки свитеров![5] Вот что случается с вязальщицами: они притягивают к себе одни только трупы!.. Мне необходимо с вами поговорить.
– Я понимаю, мадам. Вы хотите, чтобы я переехал куда-нибудь на время вашего выздоровления?
– Нет, напротив. Я хочу, чтобы вы жили здесь, подле меня, так как мне нужно побеседовать с вами.
– Я готов.
– Не хотите ли поужинать вместе со мной? Гердина стряпня ничуть не лучше, чем ее кофе, но я попрошу приготовить одно из двух блюд, которые ей удаются лучше прочих.
– С удовольствием разделю вашу трапезу. Я очень рад, что вы выздоровели.
– О нет, я не выздоровела. Это чертово сердце в конце концов не выдержит и сдастся. Вот поэтому-то мне и нужно с вами переговорить.
Я с нетерпением ждал этого ужина. Все предыдущие дни я сам себе боялся признаться, как мне не хватает моей мечтательницы, и теперь чувствовал, что она готова к откровениям.
В восемь вечера, едва Герда оседлала свой велосипед и уехала домой, а мы приступили к закускам, Эмма обратилась ко мне с вопросом:
– Вам когда-нибудь приходилось сжигать письма?
– Да.
– И что вы при этом чувствовали?
– Ярость оттого, что вынужден это делать.
Ее глаза блеснули, – казалось, мой ответ придал ей храбрости.
– Вот именно. Однажды, тридцать лет назад, мне тоже пришлось бросить в огонь слова и фотографии, относившиеся к человеку, которого я любила. Я смотрела, как сгорают в камине осязаемые следы моей судьбы, но, даже если и плакала, принося эту жертву, она не затронула моих сокровенных чувств: со мной навсегда оставались воспоминания, и я твердила себе: никто никогда не сможет сжечь мои воспоминания!
Она печально взглянула на меня.
– Как же я заблуждалась! В прошлый четверг, после этого третьего приступа, я поняла, что болезнь мало-помалу сжигает и мои воспоминания. А смерть завершит эту работу. Так вот, лежа там, на больничной койке, я и решила, что должна с вами поговорить. И что вам я расскажу все.
– Почему именно мне?
– Потому что вы пишете.
– Но вы меня не читали.
– Да, но вы пишете.
– Значит, вы хотите, чтобы я записал то, что вы мне поведаете?
– Конечно нет.
– Тогда зачем же?
– Вы пишете… это значит, что вы питаете интерес к другим людям. А мне как раз это и необходимо – немного интереса.