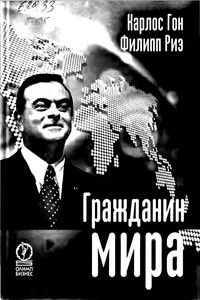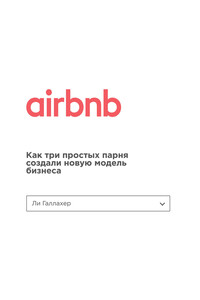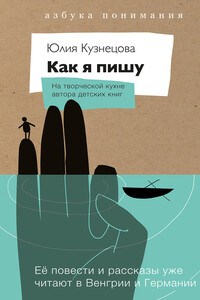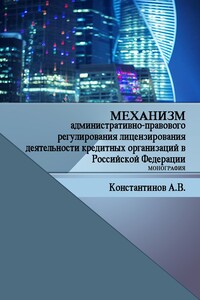Между тем для Банка Москвы «Тройка» была просто инвестицией, убеждал Варданян. Он обращал внимание Дерби, что у банка русский менеджмент, и уже одно это было комплементарно для «Тройки» как компании, трепетно относившейся к своей национальной идентичности. Номинальная власть, определявшая судьбу «Тройки», была тогда в руках Дерби как основного акционера. Но фактически он не мог не считаться с позицией менеджмента – своего главного актива. И эта позиция определилась по результатам голосования.
Рубен Варданян: «Больше двадцати топ-менеджеров голосовали, причем голосовали дважды: за то, что лучше для компании, и за то, для лучше лично для нас. Я сейчас не помню, как там точно распределились голоса. Но где-то 90 % проголосовали за то, что лично им было бы лучше стать частью большого западного банка, это блестящие перспективы карьеры, повышение своей стоимости. А вот для компании, для того, о чем мы мечтали – а мечтали мы создать собственный российский финансовый бренд, сохранить свою русскость, – так вот здесь голоса распределились 30 на 70 в пользу того, чтобы оставаться с российским банком. В итоге, выбирая между личными приоритетами и корпоративными, мы решили действовать в долгосрочных интересах бизнеса. Двадцать с лишним управленцев, которые стали акционерами, выбрали то, что лучше для их компании, – вот это и явилось прообразом будущего партнерства».
Петр с уважением отнесся к этому мнению менеджмента и не стал с ним спорить.
Отец-основатель выручил от продажи своих акций около $55 млн. Таким образом, Дерби как собственник остался для «Тройки» в прошлом. Через некоторое время он уехал в Америку, где с мая 2003 года в течение двух с лишним лет проработал управляющим директором по оперативной деятельности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ранге зампреда.
Накануне продажи компания уже занимала в жизни акционера больше места, чем «ДиалогБанк», с которого все начиналось. Галина Нестерова не могла пробиться к своему шефу – он все время говорил о «Тройке».
Галина Нестерова: «Приходя к Петру Дерби, я очень часто не могла с ним обсудить ни одного вопроса, у него постоянно шли звонки, и все были связаны с “Тройкой”. Не с внутренней, а с внешней деятельностью “Тройки”, с рынком акций. После того как “Тройка” была продана, я приходила к нему, и мы решали все вопросы, потому что никто не звонил. Это было показательно: сам “Диалог-Банк”, несмотря на свои размеры, к тому времени уже имел меньшую ценность на рынке, чем “Тройка”».
Дерби, как вспоминает Мовчан, предпочел бы продать «Тройку» американцам, а именно DLJ, владельцы которого были очень заинтересованы в покупке и приезжали для переговоров в Москву. Но в любом случае сделка с Банком Москвы оказалась для него удачной – хотя бы потому, что совершил он ее вовремя. Сделка закрылась в октябре 1997 года, когда азиатский кризис еще только набирал силу и не успел посеять панику на рынках по всему миру. А ведь рев раненых азиатских тигров отзовется эхом даже в далекой Аргентине, правда, лишь четыре года спустя.
В Россию плохие новости пришли чуть позже. В августе 1998 года федеральные власти объявили дефолт и отпустили рубль, после чего российская валюта незамедлительно рухнула. Уже в сентябре национальная экономика агонизировала, рынки застыли в ужасе. В этих условиях «Тройка Диалог» не могла не пострадать, но ее раны, к счастью, не были смертельными.
Андрей Мовчан: «Осень 1998 года “Тройка” встретила с капиталом $24 млн. По компании ходили люди, которые говорили, что скоро будет голод и рабочие выйдут на улицы. Средний менеджмент выяснял, как можно получить израильское гражданство. Рынки дышали на ладан, зарабатывать было не на чем, шли масштабнейшие сокращения. Бэк-офис уменьшился на две трети, активно сокращался трейдинг. Однако в сравнении с конкурентами “Тройка” просела не сильно, тем более что за спиной у нее стоял Банк Москвы, который мог оказать финансовую поддержку».
Даниэль Вольф: «Банк Москвы был очень хорошим хозяином, который очень облегчил нам существование в кризис 1998 года».