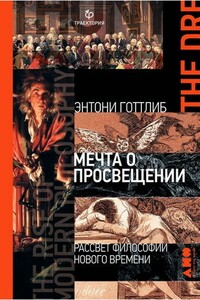Мечта о Просвещении. Рассвет философии Нового времени - страница 18
В краткой сравнительной характеристике взглядов Декарта и Локка Вольтер высветил проблему, которую впоследствии историки признали центральной для современной философии. Изображение Вольтера было несколько искаженное, но что-то вроде этого нашло свое место во многих альбомах:
Наш Декарт, рожденный для того, чтобы вскрыть заблуждения античности, но также и для того, чтобы на их место водрузить свои собственные, будучи увлечен духом систематизации, ослепляющим самых великих людей, вообразил, что сумел доказать, будто душа — то же самое, что мышление, подобно тому, как материя, по его мнению, то же самое, что протяженность; он уверял, что люди мыслят постоянно и что душа прибывает в тело, заранее снабженная всеми метафизическими понятиями, имеющая представления о Боге, пространстве и бесконечности, обладающая всеми абстрактными идеями и, наконец, преисполненная всех тех прекрасных знаний, которые она, к несчастью, забывает, когда выходит из материнского чрева >76.
Локк же, с другой стороны, «вдребезги разбив врожденные идеи… устанавливает, что все наши идеи мы получаем через ощущения»>77.
Декарт действительно придерживался странной точки зрения, будто мы непрестанно думаем. Декарт не мог понять, как избежать этого следствия из своего тезиса: «мышление… лишь оно не может быть мной отторгнуто». Но его мнимая теория о том, что мы рождаемся с огромным запасом знаний, которые немедленно забываем, а затем должны заново открывать, — злонамеренное преувеличение Вольтера. По словам Вольтера, Декарт утверждал, что:
уже через несколько недель после своего зачатия обладал весьма ученой душой, знавшей тысячи вещей, кои забыл, рождаясь на свет, и что без всякой пользы располагал в материнской утробе знаниями, ускользавшими от него как раз в тот момент, когда они могли ему понадобиться и которые так и не сумел себе вернуть>78.
Это обвинение было предъявлено Декарту еще при его жизни, и он с раздражением опровергал его, высмеивая предположение, будто он приписывает детям в материнской утробе какие-то знания. Он утверждал, что у нас есть определенные «врожденные идеи», то есть некие понятия и истины, каким-то образом внедренные в нас, но под этим подразумевал, что «нам от природы присуща потенция, благодаря которой мы способны познавать»>79 различные вещи. «А что идеи эти актуальны… я никогда не писал и об этом не помышлял»>80, — справедливо возражал Декарт. Лишь способность усваивать знания он полагал врожденной.
Тем не менее что-то было в словах Вольтера, когда он сопоставлял рассуждения Декарта о врожденных идеях и теорию Локка о том, что сырье для наших знаний обеспечивается опытом. Наиболее отчетливо Декарт определяет врожденные идеи как то, «что мы постигаем… силой собственного естественного интеллекта, без какого-либо чувственного опыта»>81. Когда я, например, сознаю, что сумма углов треугольника всегда должна составлять 180º или что Бог не может иметь каких-либо недостатков, — такие представления можно назвать «врожденными идеями». Я с ними не рождаюсь, поскольку мой естественный интеллект еще не развит, но они приходят «исключительно благодаря присущей мне способности мышления»>82. В понимании Локка главная проблема философии Декарта состояла в том, что слишком многие заявления Декарта не имели никакого другого обоснования, кроме того, что они предположительно исходили из этой внутренне присущей ему способности.