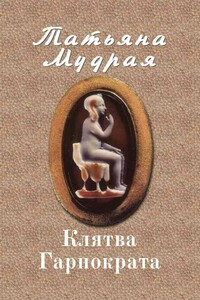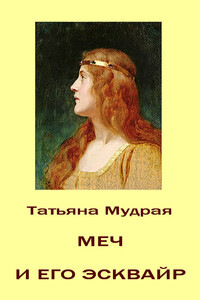— Ой, расскажи. Меня никто так в темную ночь не провожал с тех пор, как я читать выучилась.
— Ну, слушай тогда….
Все знают теперь, что за Радужной Вуалью скрывается удивительная страна Рутен, Рху-тин, Рутения… И ты тоже знаешь — ведь и сама ты оттуда.
Но только легенды говорят о том, что живёт внутри тумана, разделяющего явь одних и вымысел других…
Нет, я не скажу, какое из двух царств существует в действительности, а какое нет. Это меняется в зависимости от того, с какой стороны ты смотришь.
Так вот, внутри Вуали вечно блуждают корабли старинных мореходов, что покинули один из миров и не сумели прибиться к другому.
— «Летучий Голландец», опера Вагнера. «Старый Мореход» Кольриджа.
— Не такие уже плохие примеры и доказывают твою общую культурность. Но нет, Я о другом.
Потому что лет… скажем, сорок или пятьдесят, а то и все сто назад из Вуали вышел корабль. Очень похожий на скорлупы ба-нэсхин, но гораздо больше. Те же мощные дубовые планширы поперек корпуса, тот же ясеневый шпангоут, похожий на китовые рёбра, и кожи так же плотно сшиты корабельной иглой, до черноты проварены в дубовой коре и смазаны жиром — того требует едкая соленая вода. Парус на ясеневой мачте из шкур того же непонятного зверя, а вёсел нет, одни уключины. Потрепало, видать, и корабль, и его экипаж. Всего двух человек прибило к готийскому берегу волнами, и были то мужчина и женщина. Он светловолосый, почти седой, и темноглазый — почти как уроженец Вестфольда. А она — черные косы, синие-пресиние колдовские глаза и к тому же беременна.
Пришли они, как ты понимаешь, со стороны островов, этого уже хватало, чтобы счесть их дружками желтомордиков: так простые готийцы дразнили в те времена Морскую Кровь. Да и вестфольдцев здесь не особо жаловали. Подобное и сейчас чувствуется, а тогда этим прямо-таки разило на всё побережье.
Ну, по счастью, чужаков первое время не трогали, а попозже и пользу в них нашли — человек этот оказался хорошим мастером по железу. Жил он с самого начала и до конца этой истории под своей перевернутой кверху днищем каррой. Так называлось его судно. Да и местной речью он более или менее сносно овладел в считанные месяцы.
Для кузни он соорудил хижину из больших камней, а в бывшей карре проделал отверстие в стене — для двери — и еще одно, для очажного дыма. Она у него тоже на камень была поставлена, чтобы повыше было.
Так и жил наш странник. Чинил утварь, лошадей ковал, брался за всякую простую работу. Кухарил понемногу. А жена только и делала, что грелась у костра или на солнце и пела песни.
Да, звали его, конечно, Бран, а ее Альбе. Странные для крестьянского слуха имена, верно?
Ну, представляешь себе, что с ним одним еле мирились, а тут еще ведьма брюхатая в доме. И вот когда пришла ее пора, не мог он никого из местных баб дозваться, чтобы ей помогли. И уже двое суток длились роды, так что сил у матери совсем не стало.
И вот посреди зимней вьюжной ночи…
— Как хорошо. Почему-то все удивительные вещи происходят в мороз и непогоду.
— Но это и правда было так. Словом, стучит некто в дверной косяк: сама-то дверь была кожаная, как и вся хижина. Кузнец открыл — и увидел девушку лет пятнадцати от силы. Ну вот как тебя — только, разумеется, наши женщины покрепче будут. Собой не так уж хороша, да и одета совсем просто: темное всё. И холщовая сума через плечо.
Говорит:
— Я к тебе со своей незадачей пришла, а тут у тебя твоя собственная. Ну-ка, подвинься. И воды мне побольше нагрей — самый чистый снег от порога возьми и на очаге растопи!
— Кого-то эти слова мне напоминают. Стиль знакомый.
Стелламарис улыбнулась.
— Тогда полагай, что не сказка это, но меня все ж не перебивай.
Поглядела девица на роженицу и говорит:
— Выбирай теперь. Или оба умрут, и мать, и дитя, или один сын у тебя останется. Считай, мертвые они.
— Делай что знаешь, — говорит Бран. — Ни в чём тебя не упрекну.
Достает лекарка самозваная из сумки склянку и нож….В общем, напоила она еще живую Альбе сонной водой и вырезала сомлевшего ребенка из её чрева. А потом стала его окунать то в горячую воду, то прямо в талый снег. Ожил младенец и так-то шибко закричал!