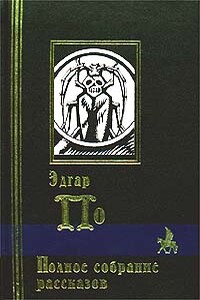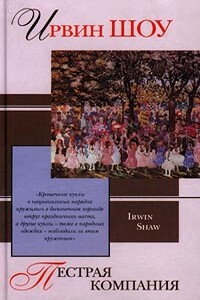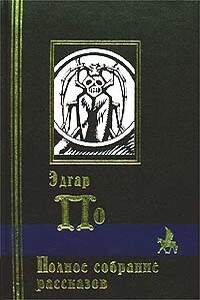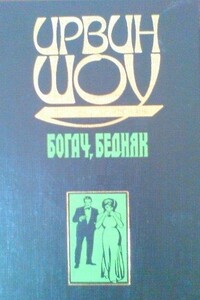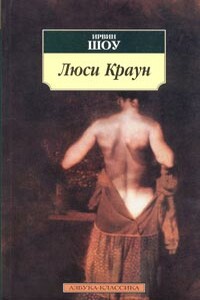Помолчал, потягивая из стакана виски, затем, подавшись всем телом к столу, заговорил, призвав на помощь все свои способности к логическому убеждению, чтобы яснее донести до ее сознания свою точку зрения.
— Почему же ты молчала в двадцать втором году? Почему ни словом не обмолвилась, когда вернулась из Нью-Джерси, если вдруг почувствовала — здесь что-то нечисто? Ну-ка, отвечай мне на эти вопросы! — прогремел он.
— Только ради детей, — тихо ответила Бесси. — Ради этих милых, невинных крошек, у которых такой непутевый отец. — И заплакала, вытирая нос концом фартука.
— Заткнись! — приказал ей Моллой. — И больше не смей раскрывать рта, когда говорит твой муж!
— Ах, милые мои детки! — При этой мысли она уронила голову на стол и еще пуще заревела. — Эти чистые ангелочки с крылышками! Им приходилось жить в атмосфере, пропитанной похотью и развратом…
— Это ты обо мне?! — заорал во все горло, не щадя голосовых связок, Моллой, угрожающе поднимаясь с места; шея его у воротника побагровела. — Я спрашиваю: ты говоришь это обо мне?
— У них, несчастных, отец и носа не казал в церковь со времен Первой мировой войны. Богоненавистник, неверующий — великий грешник!
Моллой допил свое виски и снова сел, пребывая в какой-то неуверенности.
— Ты старая женщина с острым язычком. Ты погубила всю мою жизнь. Так дай же мне прожить последние несколько лет спокойно, прошу тебя!
— Какой же ты можешь подать пример своим детям? Чему ты можешь научить их? Да ничему, кроме дурного. Испорченный человек с головы до пят! — Бесси завывала, качаясь всем телом взад и вперед. — Потешаешься над предписаниями Бога и человека, развращаешь умы молодых своими дикими, греховными мыслями!
— Ну-ка, назови хотя бы одну мою дикую мысль! — орал Моллой. — Хотя бы одну греховную, которую я внушаю своим детям! Приведи примеры!
— Ты отвращаешь наших юных, чудных, самых дорогих созданий от Бога, ты учишь их презирать Его…
— Да как ты смеешь обвинять меня в этом?! — взревел Моллой. — Ты и эту вину взваливаешь на меня? Отвечай! — Он встал — его сильно шатало.
— Наша маленькая Катрин! Ее обманули, заставили любить отца…
— «Обманули»? Предупреждаю тебя, злобная ты женщина, что не посмотрю, годовщина у нас сегодня или не годовщина…
— Дорогую Катрин, самую красивую, самую симпатичную из всех! Ребенка, на которого я могу положиться в старости. Как она могла выйти за протестанта1?! — Бесси, утратив самообладание, горько плакала, все качаясь пышным телом взад и вперед.
Моллой стоял перед ней, утратив дар речи. Его все сильнее охватывал приступ гнева, он шевелил губами, пытаясь отыскать нужные, разящие наповал слова.
— Ты что, считаешь, это я заставил ее выйти замуж за лютеранина? Говори, не таись, ты, пьяная бабка! Выходит, по-твоему, я бросил ее в объятия протестанта?
— Да, ты! — закричала Бесси. — Я не отказываюсь от своих слов! Ты всегда потешался, насмешничал над истинной верой! Ноги твоей не бывало в церкви! И обувь не снимал, когда к нам в дом приходил священник…
— Ты что это, серьезно? — тихо проговорил Моллой. — Ты отдаешь себе отчет, что говоришь?
— Катрин, бедная моя доченька! Пусть сегодня благодарит отца, — Бесси патетически вскинула голову, — что замужем за протестантом, и это — на всю жизнь!
Моллой, тряхнув бутылкой, чтобы убедиться, что она пуста, с размаху ударил ею Бесси по голове. Кровь, с остатками виски, заструилась по ее лицу. Медленно, качнувшись раз-другой, она, не произнеся ни звука, свалилась на пол.
— Так тебе и надо!
Довольный Моллой уселся на свое место, с отбитым горлышком в руках. Сразу отрезвев, он разглядывал жену: казалось, она так удобно, свернувшись калачиком, устроилась на линолеуме… Кровь медленно сочится из-под затылка, образуя темную лужицу.
Поразмыслив, Моллой встал и пошел к телефону.
— Пришлите срочно «скорую»! — И тут же положил трубку.
Вернулся на кухню, снова сел за стол и, положив голову на руки, заснул.
Когда вошел врач, Моллой тут же проснулся; с интересом смотрел, как он перевязывает голову жены. Бесси пришла в сознание; веки ее сильно опухли; она безмолвно сидела на полу.