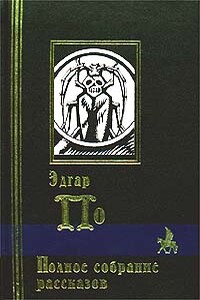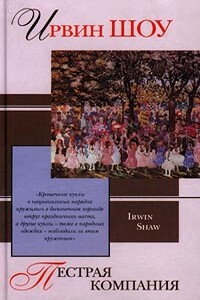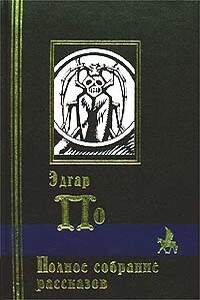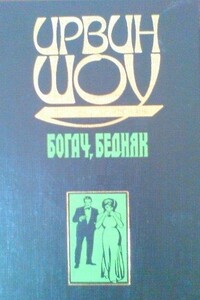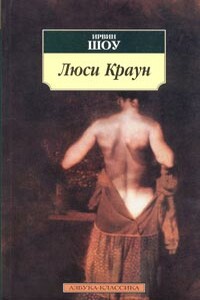Фрэнсис сразу же перестала плакать. Еще два-три всхлипа в платочек, и она отложила его в сторону. По ее лицу теперь ни о чем нельзя было судить, — лицо как лицо.
— В таком случае сделай мне небольшое одолжение.
— Пожалуйста!
— Прекрати постоянно говорить о том, как хороша та или иная женщина. «Какие глазки, какие пышные груди, какая дивная фигурка, какой замечательный, глубокий голос!» — передразнивала она. — Можешь восторгаться ими, только про себя. Мне это неинтересно! Противно!
— Хорошо, прости меня, я только так отныне и буду поступать. — Он жестом позвал официанта.
Фрэнсис скосила на него глаза.
— Еще один бренди, — заказала она, когда тот подошел.
— Два, — поправил Майкл.
— Да, мэм; слушаюсь, сэр. — Официант пятился спиной назад.
Фрэнсис холодно смотрела на мужа через стол.
— Может, позвонить Стивенсонам? Сейчас так хорошо в деревне.
— Да, позвони!
Она встала со своего места и через весь зал пошла к телефонной будке. Майкл, наблюдая за ней, думал: «Какая все же она красивая женщина! Какие у нее замечательные, стройные ноги!»
Возвращение в Канзас-Сити
Эрлайн, открыв дверь в спальню, тихо прошла между кроватями-«близнецами». В тихой комнате слышалось лишь легкое шуршание ее шелкового платья. Шторы были опущены, и острые, тонкие лучи запоздалого полуденного солнца проникали лишь в одном или двух местах — через щели оконных рам. Эрлайн смотрела на спящего под двумя одеялами мужа. Его типичное, помятое лицо боксера, с разбитым носом, мирно покоилось на мягкой подушке, а волосы скучерявились, как у мальчишки, и он негромко похрапывал, так как дышал только через полуоткрытый рот; на лбу у него выступили крупные капли пота. Эдди всегда потел — в любое время года, везде, в любом месте. Но сейчас, заметив на нем привычный пот, Эрлайн вдруг почувствовала, что это ее раздражает.
Она стояла над ним, разглядывая его безмятежное лицо, по которому прошлась не одна кожаная перчатка. Присела на соседнюю кровать, все не отрывая взгляда от спящего Эдди. Вытащив из кармана носовой платок, поднесла его к глазам: сухие; подергала носом — и слезы как по заказу полились. С минуту она плакала тихо, почти неслышно, но вдруг разразилась обильными слезами и громкими рыданиями, дав себе волю.
Эдди зашевелился в кровати и, закрыв рот, повернулся на бок.
— Боже мой, — рыдала Эрлайн, — пресвятая Богородица!
Эдди давно проснулся и слушает ее — ей это отлично известно, как и ему самому. Но он довольно искусно притворялся, что спит; даже для пущей убедительности пару раз храпанул — так, для эксперимента.
Рыдания все еще сотрясали все тело Эрлайн, и косметика поплыла у нее по щекам, прокладывая две прямые дорожки. Эдди, вздохнув, повернулся к ней, сел в кровати, приглаживая обеими руками взлохмаченные волосы.
— Что случилось? Что с тобой, Эрлайн?
— Ничего-о!.. — рыдала она.
— Если все в порядке, — нежно произнес Эдди, — то почему же ты так горько плачешь?
Эрлайн промолчала. Теперь она рыдала не так громко, но с такой же горечью, с таким же отчаянием, правда, уже в тишине: по-видимому, загнала свое горе поглубже в себя. Эдди, вытерев глаза тыльной стороной ладоней, с тревогой глядел на темные, непроницаемые шторы — через них кое-где пробивались тонкие солнечные лучи.
— Послушай, Эрлайн, в доме шесть комнат. Если тебе охота поплакать, то нельзя ли для этой цели пойти в другую комнату? Не обязательно же в той, где я сплю.
Эрлайн совсем уж беспомощно уронила голову на грудь; волосы (выкрашенные в соломенный цвет в салоне красоты) упали ей на лицо — поза воплощенного трагизма.
— Тебе наплевать, — прошептала она, — абсолютно наплевать, когда я надрываю сердце… — Она комкала платочек, и слезы текли по запястью.
— Откуда ты взяла? — возразил он. — Наоборот, я всегда о тебе забочусь.
Эдди аккуратно отбросил покрывала, опустил ноги в носках на пол. Спал он в штанах и рубашке, и все изрядно помялось. Сидя на краю кровати, он покачал из стороны в сторону головой и шлепнул себе по щекам, чтобы окончательно проснуться. С несчастным видом глядел он на жену, сидевшую перед ним на другой кровати, на ее испачканные тушью щеки, сбившуюся прическу, опущенные на колени руки… Печаль, тоска сквозили в каждой ее черте, в любом невольном движении.