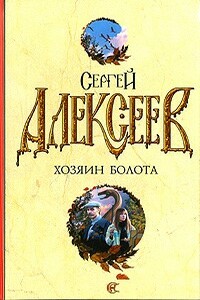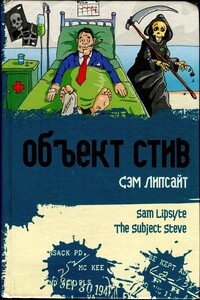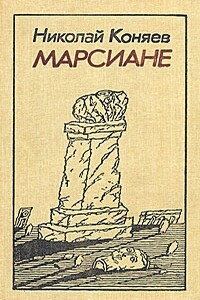— А ты по нашему следу, — советовала мать. — Ну-ка, вмиг согреешься!
Я оглянулся на Созихин дом, и мне стало еще холоднее. Наш след проходил прямо у его ворот. И тогда мать взяла меня за руку и побежала по свежетореной дороге. Самокатки вязли в сыпучем, как соль, снегу, сердце подкатывало к горлу, стучало в висках. Сделав один круг, мать подтолкнула меня на второй. Я понесся еще быстрее и уже возле созихинской избы почувствовал тепло в теле и пот на лбу. Пробегая мимо ворот, я зажмурился, чтобы не видеть Созиху, потому что она снова выбежала во двор и что-то кричала мне. Выскочив на твердую дорогу, я шлепнулся в сани, и мы поехали.
А через день, когда мы возвращались домой с чесаной шерстью, дороги вдоль опушки березняков уже не было. Ее успело присыпать снегом, сровнять заподлицо с полем. И все теперь ездили не минуя Созихиной избы, по проторенной матерью дороге, которая укаталась и промерзла так, словно всегда здесь и проходила.
А дорога и в самом деле во все времена шла мимо жилых дворов брошенных деревень. Но этой зимой торивший ее то ли побоялся одинокой сумасшедшей старухи, то ли слишком спешил, что взял да и спрямил дорогу. Другие за ним ехали прямицей, да еще, поди, нахлестывали лошадей, чтобы скорее проскочить Созиху, как проскакивают темные разбойные леса или кладбища. Умри она в своей избе, — может быть, кто и заехал узнать, в чем дело, но тут же огонек в окошке светится, дым из трубы идет: значит, жива. И тянет мимо наезженная дорога, и мимо провозит конь, чуя твердь под копытами. А что одинокая избенка среди полей? Мелькнула — и нет ее, пропала за снегами, лесом и расстоянием. Если и появится у кого мысль заехать попроведывать Созиху, то запоздало. Возвращаться же назад — плохая примета в дороге. Как все-таки много зависит от того, кто первый бьет путь.
Ничего подобного мне тогда и в голову не приходило. Это теперь, когда я пережил по возрасту мать и вдруг обнаружил, что не знаю, что значит творить добро (в этом нынче все большие теоретики, но никудышные практики), я все чаще стал думать о матери и об этом незначительном в ее жизни эпизоде — проторенной к Созихе дороге. Помню, у нас в школе завели толстую тетрадь и назвали ее «Книгой добрых дел». Но едва туда записали наши добрые дела, как они тут же перестали быть добрыми, превратившись в заслуги. И теперь иногда я ловлю себя на том, что завел какой-то устный поминальник, который при случае можно выхватить из кармана и что-нибудь процитировать оттуда. И как бывает стыдно, когда мы, собравшись в кучу, размахиваем этими поминальниками как дубьем. Глядишь — и убили кого-то…
А нам бы молчком торить-дороги к людям, да и к себе тоже. Не успеешь оглянуться, как по ним поедут другие — такова уж человеческая натура.
Тогда же я думал, что впереди еще долгий путь, невиданные места и интересные приключения. Ну какое же путешествие, тем более первое в жизни, без приключений?
К обеду Карюха притрухала в Митюшкино, мать сразу преобразилась, посветлела лицом: эта вятская деревня была родиной моих родителей. Митюшкино походило на нашу Алейку. Такой же материковый берег выходил к реке, только что чуть пониже, поположе, и такие же огромные сосны обрамляли его по увалам.
— Вон там мы играли, — показывала мать, привстав на коленях. — А вон там — купались!.. А вон там хороводы водили! Господи, хорошо-то как! Так бы и жила тут всю жизнь.
Она счастливо улыбалась, шаль на ее голове съехала, расстегнулся полушубок; казалось, ей вдруг стало жарко на морозе и сейчас она выскочит из саней и побежит, не касаясь снега. А мне здесь все было чуждо и незнакомо. Темнел вдали хмуроватый бор, безжизненные, нетронутые снега лежали во все стороны, и только на берегу курилась дымком высокая изба Багаевых.
— Вот здесь наш дом стоял, — рассказывала мать, указывая на сиротливые столбы среди рябых сугробов. — Тут я и родилась…
Почуяв жилье, Карюха наддала, те столбы, склонив снежные шапки, проплыли мимо и скоро остались позади. Мать проводила их взглядом и потерла рукой глаза.
— Снег блестит — глазам больно… У тебя, сынок, глаза не режет?