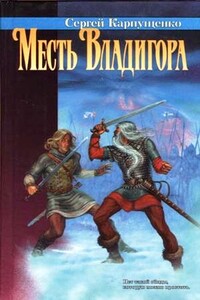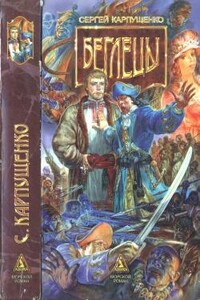По времени ночному, зимнему только пять стражников, поставленные на помосте, должны были следить за спокойствием внутри подворья и за его пределами — не бродят ли под стенами подозрительные люди, не собирается ли кто проникнуть во дворец. И так далеко друг от друга они стояли, что не видели товарищей своих, поэтому лишь перекликались на всякий случай в темноте: «Поглядывай! Посматривай! Послушивай!»
И где же им было заметить черную кошку, бесшумно поднявшуюся на помост! Воины не видели ее, зато она прекрасно различала во мраке их фигуры, но гораздо сильнее привлекали ее внимание прислоненные к стене самострелы, и вот подкралась она к одному из них. На задние лапы приподнявшись, опершись передними о железное луковище, стала перегрызать острыми зубами тетиву пеньковую. Вмиг перегрызла, и в мочалку превратилась тетива крученая. Вполне довольно было, чтобы самострел негодным стал.
Так, бегая от самострела к самострелу, перегрызала кошка их тетивы. Чуть ли не до самого рассвета трудилась. Если первые две-три сотни одолела она без всякого труда, то потом стала уставать, зубы на пятой сотне уже притупились, на седьмой едва ли не под корень источились, но кошка все грызла и грызла тетивы, а уж потом и когти ее острые в ход пошли.
Не считала она, сколько перегрызла тетив. Знала только, где можно еще найти самострелы. Проскользнула во дворец, когда с теми, что на стене стояли, покончила. В покоях, где борейцы спали, нашлась работа, а когда, измученная, с изломанными зубами и когтями, перегрызала очередную тетиву, ощутила вдруг, как все внутри у нее заклокотало, задвигалось. Кошачьи лапы и туловище увеличиваться стали. Шерсть черная отпадала клочьями, обнажая кожу гладкую, человеческую. Хвост уменьшался, потом и вовсе исчез, но менее зоркими делались ее глаза — способность видеть в темноте постепенно пропадала. Человеческими делались глаза.
Карима с четверенек поднялась. Руками провела по телу — голая она совсем. Рядом храпели спящие борейцы. На цыпочках ступая, одежду мужскую, лежавшую на лавке, взяла в охапку и вышла с нею в сени, где оделась быстро. Выйдя на подворье, нашла быстро конюшню, — темнота не была ей помехой, оставались в ней прежние чутье и зрение кошачьи. Помнила Карима, где то стойло, в котором Бадяга крышку открывал. Ощупью нашла его, загородку отворила — конь услышал, захрапел, заржал тихонько, а уж Карима, встав на корточки, ощупывала пол.
Вот нашла четырехугольник крышки. С трудом сдвинула ее, а там уж ноги сами побежали вниз по ступенькам, а дальше — вперед по коридору, где ни зги не видно было. Шла Карима долго, то и дело холодных стен рукой касаясь, но наконец споткнулась о ступеньки, наверх ведущие. Головой ударилась о камень. Дальше не подняться. Догадалась, что чем-то сверху закрыли лаз. Плечами, спиной уперлась она в преграду, надавила вверх что было сил — заскрипела, сдвинулась плита! Воздух морозный в подземелье ворвался через образовавшуюся щель. Теперь уже руками двигала плиту Карима, и вот выбралась она на волю.
Тут же чутьем своим изощренным уловила запах человеческого жилья. Пошла туда, где пахло лошадьми, очагами, едой. Увидела землянки. Вход в каждую завален лапами еловыми. Поняла: здесь и остановился Владигор, пославший Бадягу во дворец ладорский.
Не знала, в какой землянке князь ночует, поэтому сучья от входа самой крайней отвалила, храп услышала, громко позвала:
— Владигор, князь синегорский, здесь ли?
Поначалу никто не отвечал. Потом голос, хриплый спросонья, недовольный, из темноты послышался:
— Да кто там спать нам не дает? Какого лешего тут бродишь?
Карима еще настойчивей сказала:
— Поторопись, дружище, скажи, где Владигор! Медлить будем, не вернем себе Ладора! К нему ведите! Владигору и поведаю, кто я и какого дела ради по ночам его тревожу!
— В третьей от нас землянке он ночует! — слышался все тот же недовольный голос. — Ишь, приспичило! Бродют тут…
Карима бросилась туда, где горбился нужный ей сугроб — землянка Владигора. Смело сучья разбросала, крикнула в черное отверстие:
— Князь Владигор, вставай скорее! Случай представился тебе занять дворец! Не мешкай!