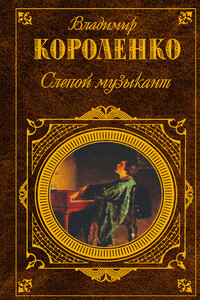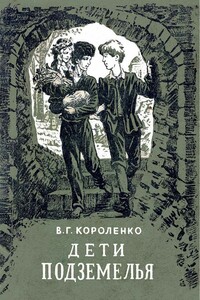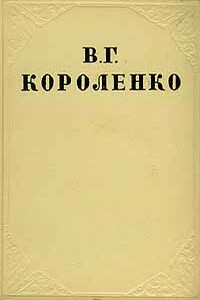Это был «коридор подследственного отделения», куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных, только справа от одной из них отделялась лестницей, над которой висела доска: «Вход в малый верх».
Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону- третий умалишенный — не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле.
— Яшка-то молчит ноне, — тихо сказал «старший надзиратель» младшему.
— Не видит… Ну его! — ответил тот так же тихо.
Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногою в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. «Старший» — седой, низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точно колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей, — весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.
— Полно, Яшка, что задурил-то? — отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик, с длинными опущенными вниз усами, в большой папахе. — Чего не видал? Видишь, арестантов привели!
Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И, как бы убедившись, несмотря на наши «вольные» костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своею дверью. Слов мы не могли расслышать — «одиночка» уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь «подследственного отделения» вошла опять в свою обычную колею.
Пять шагов в длину, три с половиной в ширину — вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, и в него видна, на расстоянии двух сажен, серая тюремная стена. Углы камеры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурною каймой многолетней пыли, стены серы, и, при внимательном взгляде, видны на них особые пятна — следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами, — борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь… Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь «одиночки», которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось…
За стеной послышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, заморенная клячонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая «кеньгами» по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и так же вяло принялись за работу… Отвратительною вонью пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру…
Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату.
— Од-на-ко! — сказал он протяжно.
— Д-да! — подтвердил я.
Больше говорить не хотелось, да и не было надобности, — мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканные паутиной, крепко запертая дверь… В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь: неделю, две?.. Нехорошо, скверно! А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может, и годы…
А арестантики продолжали работу — это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда со своим неблаговонным ящиком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая, — все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон.