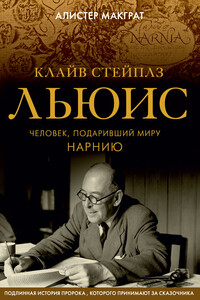Отец дал на это потрясающий по силе ответ. «Вы, сын мой, ученый, – отвечал он, – так неужто не читали в Библии, что следует почитать отца и мать? А сами бросили и меня, и матушку вашу, так что мы остались одни на старости лет».
Большая часть биографий Лютера описывает этот разговор как серьезный обмен ядовитыми упреками, еще более болезненными оттого, что дело происходит публично, при большом стечении народа – и, во фрейдистском духе, видит за этими репликами движение каких-то подсознательных тектонических плит. Именно сейчас, в миг, когда Лютер, ища утешения и примирения, ждал, что отец наконец благословит его решение, принятое во время грозы в Штоттернхайме – тут-то и поджидала его гроза отцовского гнева! Но так ли это?
Быть может, интонации и смысл этой перебранки были совсем иными? Быть может, на шумном празднике, с чувством облегчения от примирения после двухлетней ссоры, Лютер задал свой вопрос полушутя? И ответ отца был не жестоким упреком, да еще и брошенным перед всем честным народом, а такой же полушуткой, острым словцом? Мол, «ах, ты так – а я сейчас тебя срежу!» Нам известно, что позже любовь Лютера к шуткам и каламбурам не знала границ, да и весь тюрингско-саксонский мир славится страстью высмеивать и вышучивать друг друга; быть может, и этот диалог не стоит воспринимать совсем уж всерьез.
«Но, отец, – отвечал на это сын, – своими молитвами здесь я принесу вам больше пользы, чем если бы оставался в миру». А затем, чтобы на том и окончить спор, напомнил отцу: ведь сам Бог говорил с ним через раскаты грома, побуждая принять решение о монашестве! Не станет же добрый отец противиться решению Бога! Однако отец Лютера был не глупее сына: «Дай-то Господи, – отвечал он, – чтобы в тот день вам явился Бог, а не дьявол!»
И вот что нам известно точно: в каком бы настроении ни проходил этот разговор – последние слова отца поразили Лютера и преследовали его еще много лет спустя. Конечно, связано это и с тем, что позднее Лютер не раз задумывался о том, что произошло с ним тогда, в раскатах грома и блистании молний. Кто воззвал к нему – Бог или дьявол? От того, чтобы отвергнуть монашество, двадцатитрехлетнего Лютера отделяла целая эпоха; однако семя было уже посеяно и в должный срок выросло в бобовый стебель такой высоты, что он расколол монолит европейского христианского мира – в глазах тогдашних людей, почти что расколол небо.
В 1507 году Лютер стал не только монахом, но и священником. Но принять монашество – лишь полдела. Теперь ему предстояло жить так, как живут монахи: непрестанно молиться, скрупулезно отслеживать свои мысли и постоянно исповедовать мельчайшие уклонения, ничтожнейшие проявления невнимания или небрежности в этих сферах. Ошибочно было бы полагать, что все прочие монахи относились к этому несерьезно – однако складывается впечатление, что Мартин Лютер воспринял свои обязанности с повышенной серьезностью, и именно поэтому остро, как мало кто еще, столкнулся с неизбежными проблемами такой жизни – а это, в свою очередь, заставило его задуматься обо всей религиозной системе так, как мало кто еще о ней думал.
Хотя богословие христианской религии всегда гласило, что от грехов спас нас Бог – Спаситель Иисус, а не мы сами, – и что в любви и милости Своей Бог спасает тех, кто сам спастись бы не смог, – с веками в практическую жизнь христиан тишком проползла другая мысль, совершенно противоположная первой. В средневековых христианских практиках ясно звучит идея, что спасение можно заработать своими силами, – если не полностью, то по крайней мере сделать большой шаг к своему спасению; так что лучше постараться и предпринять все, что в твоих силах. Разве нет вокруг людей, отличающихся святой жизнью? Разве святые – не живые доказательства того, что жить свято нам вполне по силам? Разве не говорил сам апостол Павел, что нам следует «со страхом и трепетом совершать свое спасение»?[46]. Итак, церковное богословие очень далеко отошло от простой мысли, что нас спасает Бог, – напротив, в нем появилось сильное тяготение к идее, что спасать себя мы должны сами.