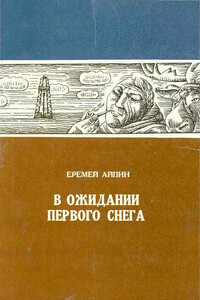Но Филька со взрослыми всегда был недоверчив и горд.
В коммуне Филька всегда был вождем сепаратистски настроенных пацанов. Вокруг него всегда вертелись пацаны, занятые предприятиями и разговорами, в которые старшие коммунары, не говоря о взрослых, обыкновенно не посвящались.
В этом узком кругу Филька бывал всегда деятелен, стремителен и весел, его смех взрывался то там, то здесь. Его неудачные последователи, вроде Котляра или Алексюка, всегда «засыпались» и попадали в тот или другой рапорт, но сам Филька при встрече со старшими неизменно напускал на себя солидность и разговаривал только недовольным баском. При попытке ближе подойти к «душе ребенка» он бычком наклонял голову и что-то бурчал под нос.
Изменял своей тактике и делался доверчивым и ласковым Филька только во время репетиций малого драмкружка, самым активным членом которого он всегда был.
Но пионерские пьесы, упрощенные и неинтересные, Фильку не удовлетворяли. Он стремился в старший драмкружок, неизменно присутствовал на всех его заседаниях и непривычно для него смело и настойчиво требовал всегда выбора такой пьесы, в которой и для него находилась роль.
На репетициях Филька веселел и удивлял всех своей способностью точно схватывать и повторять тон, данный ему режиссером. Обращал он на себя внимание и своим мальчишеским дискантом и свежестью своей живой мордочки.
Тем не менее прямо можно было сказать, что все очарование Филькиной игры никогда не было очарованием драматического таланта. Только вот эта детская искренность и свежесть и делали Филькину игру занимательной.
Филька, однако, был иного мнения. Он еще весной стал важничать и заявлять, что если бы его пустили в киноактеры, так он показал бы, как нужно играть.
Мне уже не раз приходилось наблюдать увлечение кинокарьерой, но в таком молодом возрасте я это увидел впервые. Пожалуй, наша вина была в том, что мы слишком баловали Фильку и позволили ему слишком занестись. Пробовали Фильку уговаривать:
— Да что ты, Филя! Что там хорошего в киноартистах, что у них за игра! Немые, как рыбы…
Но разве в таких случаях можно что-нибудь доказать? Да и разве можно было убедить Фильку в том, что все его достоинство в симпатичнейшем дисканте, который Фильке дан не на долгое время.
Филька примолк.
А в Москве, во время свободных прогулок по городу, он нашел нужных ему людей и переговорил с ними. Потом заявился ко мне и по обыкновению недовольным басом забурчал:
— Вот тут есть такой человек, так он говорит, что мне можно поступить на кинофабрику.
Окружавшие нам комсомольцы рассмеялись:
— Вот смотри ты, артист какой? На что ты ему сдался? Подметать двор тебя заставит, и в лавочку будешь бегать за лаком.
— Ну что ж, и побегу, и играть буду.
— Кого ты будешь играть? — рассердился даже кто-то.
— Как кого? Пацанов буду играть.
— А потом?
— Что потом?
— А потом, когда вырастешь?
— Ну-у, — протянул, уже явно сдерживая слезы, Филька, — «когда вырастешь»!.. Потом тоже найдется. А ты что будешь потом? — вдруг разозлился Филька. — Ты, может, будешь грузчиком!
— Он уже сейчас слесарь, грузчиком не будет, а ты все-таки брось. Забили мальчишке голову, он и карежится. Артист!
Я Фильке сказал:
— Не могу я так тебя отпустить. Я считаю, что это дело пустяковое. Артистом ты не будешь, да ты еще и маленький учиться в студии. Тебя возьмут, пока у тебя рожица детская, а потом выставят, будешь ты ни артист, ни мастер.
Филька ничего не сказал. Но по приезде в Харьков отправился Филька жаловаться на меня члену правления товарищу Н.
— А если я хочу быть артистом, так что ж такое? Может, у меня талант. Нужно меня отпустить.
— Куда?
— На кинофабрику.
— Если ты хочешь быть артистом, так нужно учиться на драматических курсах, а для этого ты еще маленький. А что ж на фабрике? Нет, поживи в коммуне, а там видно будет.
И от Н. Филька не в коммуну направился, а на вокзал. Вспомнил старину: влез на крышу, поехал почему-то не в Москву, а в Одессу.
В коммуне с горестью констатировали:
— Филька убежал.
В течение двух-трех недель ничего о Фильке слышно не было, убежал — и все. Мало кому приходило в голову, что Филька поехал искать актерского счастья, — думали, просто сорвался пацан, надоела коммунарская дисциплина.