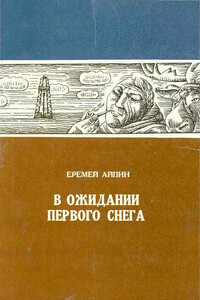7 июля 1929 года в шесть часов утра колонна коммунаров тронулась с площади Курского вокзала на свою московскую квартиру. На утренних улицах, свежих и пустынных, гремел наш оркестр. Еще не совсем проснувшиеся глаза вглядывались в лицо московских улиц. Вот она, великая Москва, о которой мечтали целый год, о которой была столько споров!
Направились к центру. На углу какого-то бульвара — «Стой!»
Отдыхать не отдыхали, а, скорее, собирались с чувствами.
Меня окружили:
— Вот это такая Москва? — недовольно тянул Похожай. — Не лучше Харькова.
Сторонники Крыма поддерживали его, но это все — так, «для разговора», а все ощущали какую-то торжественную приподнятость и были полны бодрости.
— Шагом марш!
Притихли все на асфальте Мясницкой. Глянула Москва на нас столичным важным взглядом, глянула сочными, солидными витринами, перспективой улиц… Притихли в нашей колонне. Впереди — зубцы Китай-города.
— Э, нет, это действительно Москва! — пробормотал за моей спиной знаменщик. И замолк.
Карабанов скомандовал:
— Государственному политическому управлению салют, товарищи коммунары!
Весело и задорно отсалютовали старшим родичам и повернули на Большую Лубянку, теперь улицу Дзержинского. На этой улице наша квартира — школа Транспортного отдела ОГПУ.
Ничто не так дорого как эта квартира. Пока ребята входили в улицу Дзержинского, вспомнилось все.
Целую неделю пробыл в Москве наш агент Яков Абрамович Горовский, а мы в коммуне сидели на чемоданах и ожидали от него телеграммы, в которой бы сообщалось, что квартира есть — можно выезжать.
Но Горовский ежедневно присылал нечто непонятное и неожиданное:
«С квартирой плохо. Есть надежда на завтра».
«Задержался еще на один день. Отсутствует нужное лицо».
«Наркомпрос отказал. Выясню завтра»…
Меньше всего мы ожидали, что нам откажут в квартире.
Но шестого вечером приехал Горовский и рассказал нам обидные и возмутительные вещи.
В экскурс-базе, в Наркомпросе, в Моно, в союзе Рабпрос — везде с готовностью соглашались предоставить на две недели помещение для коммуны ГПУ, но после такой любезности следовал вопрос:
— А что это за дети?
— Дети? Исключительно беспризорные.
Горовский гордился тем, что наши дети все — беспризорные, что тем не менее они организованно едут в Москву и он, Горовский, подыскивает для них квартиру. Но как только московские просветители, такие симпатичные, такие даже сентиментальные в своих книжках, так любящие ребенка и так его знающие, узнавали, что эти самые «цветы жизни» просятся к ним на ночевку, они приходили в трепет.
— Беспризорные? Ни за что! Об этом нельзя даже и говорить! На две недели? Что вы, товарищ, шутите? Что вы в самом деле?
Горовский не столько огорчался, что нет квартиры, сколько оскорблялся. Как это так? Те самые коммунары, которые не впускали Горовского в дом, если он недостаточно вытер ноги, здесь, в Москве, считаются вандалами, способными уничтожить всю наробразовскую цивилизацию?
И только когда бросил Яков Абрамович ходить по просветительному ведомству, улыбнулось ему счастье: Транспортная школа предоставила для нас общежитие с постелями, с кроватями.
Колонна во дворе школы.
— Стоять вольно!
Сигналист играет сбор командиров. Командиры отправляются делить помещение между взводами. Через три минуты они вводят свои взводы в спальни. По коридорам общежития расставляются наши плевательницы и сорные ящики, комендантский отряд уже побежал по коридорам и переходам с вениками и ведрами: прежде всего коммунары наводят лоск на то помещение, в котором будем жить. Здесь месяца полтора никого не было. Еще через пять минут дежурство дает общий сбор, и начинается авральная работа уборки. Моют стекла в окнах, уничтожается пыль.