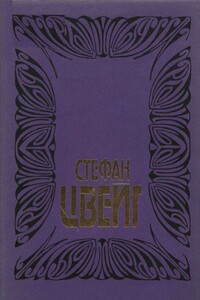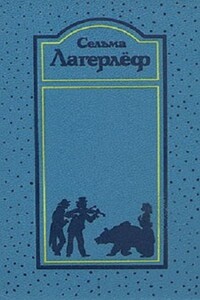Moi, seute en mon cbemin et pleurante au milieu,
J’ai dit ce que jamais femme ne dit qu’à Dieu>[57]
.
Отверженница судьбы, изгнанница счастья, «пария любви», Марселина Деборд-Вальмор была, и как поэт, небогата. Царственная сокровищница языка оставалась для нее закрытой всю жизнь. Горячую плоть своих стихов ей никогда не удается украсить сверкающими, искрометными, переливчатыми самоцветами редкостных слов, затейливыми пряжками чеканных сочетаний, вековыми богатствами унаследованных или перенятых культур. Чтобы купить свободу своему чувству, у нее нет ничего, кроме мелкой монеты обиходной речи, словаря обывателя, чуть ли не ребенка. Марселина Деборд-Вальмор —самоучка, и образование ее, скорее, ниже среднего уровня того времени. За свою недолгую юность она училась мало, поздно поступила в школу:
..Jе ne savais rien à dix ans qu’être beureuse[58].
Жизнь рано оторвала ее от детства, и нужда и заботы выбили у нее книги из рук. Судьба никогда не оставляла ей досуга, чтобы пополнить свое образование. Эта великая поэтесса не владеет даже самым малым — правописанием. Добрую долю ее стихов приходилось править перед тем, как сдавать в печать, а в ее письмах грамматические ошибки кишат, как рыбы в пруду. Всякое чужеземное слово для нее камень преткновения. В одном из своих писем она говорит об «экиноксах», которыми были вызваны сильные ветры, и, в душевном смирении, озабоченно сопровождает диковинное слово таким извинением: «Я это повторяю с чужих слов, потому что ты ведь знаешь, что я не ученая, не ученее деревьев, которые гнутся и выпрямляются сами не зная почему».
Искусство Марселины Деборд-Вальмор безыскусственно. Рифмы ее бедны, образы едва ли не те же, что можно встретить у синих чулков и дилетантов, слащаво-романтические сравнения с цветком, колеблемым дыханием ветерка, с облетающей розой, с ласточкой, которая ищет себе гнездо, с молнией, сверкающей среди ясного неба. Форма ее стихов довольно однообразна, и уже сонет, при скудости ее рифм, для нее слишком труден. В своем искусстве она бедна. Для обмена на чувство, на драгоценное чувство, у нее нет ничего, кроме стертых медяков обыденной речи, ничего, кроме неприхотливых слов, которые, как говорит Рильке, «прозябают в буднях», маленьких, простых, чудесных слов, «les mots, les pauvres mots, les mots divins qui font pleurer»[59]. И свое поэтическое достояние она тоже добывает себе сама; поэтом делает ее не язык, не перенятое у других, а только то, что она извлекает из собственной груди: бесконечное чувство, и затем—верховная сила всего ее существа: музыка.
Марселина Деборд-Вальмор вся — музыка, потому что вся она — душа. Ей дарована та высшая власть, та и земная, и неземная власть, которая из семи звуков, из октавы, созидает целую вселенную восприятий. Самые холодные, самые трезвые слова становятся прозрачными и пронизанными огненным ритмом чувства. В ее стихах мы никогда не встретим ничего построенного, ничего очерченного, ни изображений, ни воссозданий, никаких проблем, никаких конструкций: все — текучее, реющее, звучащее, легкое, все — музыка, преображение. Она одухотворяет самую бедную из рифм, самое смиренное из слов, и все это, трудно добытое, сплетает в блаженный венок.
В музыке и сущность, в музыке и причина ее творчества. Ибо не честолюбие, не подражательность привели ее к поэзии, как других. Марселина, в молодые свои годы, любит гитару. Ее тонкий слух запоминает мелодии, которые она слышит в театре, которые она слышит на улице, и так как она слишком бедна, чтобы покупать книги, где она могла бы найти слова, то в долгие часы одиночества она сама сочиняет дома меланхолические романсы и небольшие песенки к звучащему внутри нее напеву. Незаметно, совершенно бессознательно, как тянется к небу полевой цветок, из этой невинной игры вырастает подлинное влечение, страсть к поэтической исповеди. А когда ее голос начинает слабеть и она вынуждена бросить пение, она целиком переходит от напеваемого к писаному, к произносимому слову. «Музыка, — пишет Сент-Бев, — начала превращаться в ней в поэзию; слезы запали ей в голос, и однажды утром элегия сама расцвела у нее на устах». Долгие годы она слагает стихи не для мира, она просто поет, чтобы усыпить свою боль, «pour endormir son pauvre соеur»