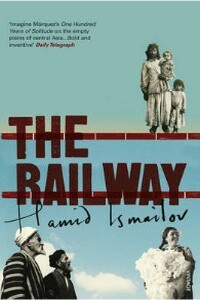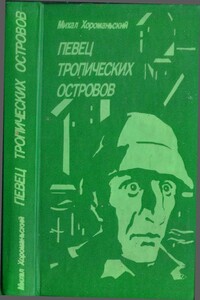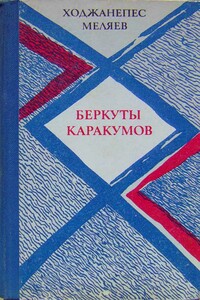У него было такое ощущение, будто он проник в какую-то неведомую прежде местность, где дышалось легче, полной грудью, но чувствовал он себя тут пока еще новичком, не совсем уверенно и одиноко. Надо было освоиться, и он с радостью замечал, что сделать это было нетрудно. Изо дня в день обдумывая услышанное и прочитанное, он видел, как постепенно, одна за другой, преодолеваются трудности, неприязнь и препятствия.
При встрече с доном Сильвио на его обычное: «К вашим услугам, маркиз» — он отвечал теперь со скрытой иронией, как бы желая сказать: «Не очень-то воображайте, дорогой священник!» И сам поражался, ловя себя на этой мысли.
Порой вечером за ужином в открытую дверь балкона доносилось глухое бормотание людей, которые, наложив на себя епитимью, чтобы прекратилась засуха, с молитвой следовали за доном Сильвио. Маркиз пожимал плечами, сочувствуя этим беднягам, которые — повторял он слова кузена — стирают себе обувь и напрасно тратят силы в надежде, что небо смилостивится над ними!
И не переживал больше, когда слышал по ночам хриплый протяжный крик тетушки Марианджелы: «Сто тысяч дьяволов на палаццо Роккавердина! О-ох! О-ох! Сто тысяч…»
Эти дьяволы, рассылаемые во все стороны несчастной безумной женщиной — сто тысяч сюда, сто тысяч туда, во все дома богачей, — теперь вызывали в его воображении лишь ее облик: остриженная по-мужски, в лохмотьях, с багровым от прилива крови лицом. Вот так неприлично ведя себя, безобидная, бродила она по улицам, если муж не сажал ее, как буйную скотину, на цепь, чтобы удержать дома.
Но потом, едва маркизу начинало казаться, что он уже ни в чем не сомневается, снова рождалась неуверенность. Когда бы он ни размышлял об этом — в постели перед сном, в поле, наблюдая за работами и отдавая распоряжения, забившись в угол коляски по пути из Раббато в Марджителло, в Казаликкьо или Поджогранде, — все эти «истории» кузена, все, что он прочитал и перечитал, рассыпалось в его сознании, словно карточный домик.
И он снова начинал думать о возможной поездке в Рим, чтобы испросить отпущение грехов у папы.
Раз есть сомнения, не лучше ли обезопасить себя?
И его вновь охватывало беспокойство. Кузен Пергола был прав, когда говорил: «Да разве можно жить так, как вы!»
И тетушка баронесса тоже была права: «Почему не женишься? Почему?»
К тому же ненависть, таившаяся в самой глубине его души, нередко вызывала теперь воспоминания об Агриппине Сольмо.
— Вы сможете начать все с другой! — посоветовал ему кузен Пергола.
— О нет! О нет!
И он с сожалением думал о том спокойном, счастливом времени, когда ни на кого не обращал внимания и делал что хотел; и дом его сверкал чистотой, словно зеркало, и у него была не просто любовница, а настоящая раба, добрая, покорная… которая имела к тому же то преимущество, что не рожала детей!
Ах, если бы он не послушался уговоров и советов тетушки баронессы! Ничего не случилось бы из того, что случилось! И не было бы на его совести преступления — это казалось ему почти невероятным! — и Агриппина Сольмо была бы по-прежнему рядом…
— И подумать только, находятся же люди, которые завидуют мне! — вздыхал он, качая головой.
В это воскресенье маркиз, против обыкновения, сам пришел к тетушке баронессе, хотя она не посылала за ним, и неожиданно застал у нее синьорину Муньос вместе с младшей сестрой и служанкой.
Узнав младшую в прихожей, где дон Кармело что-то говорил ей на свой манер о портретах каких-то древних предков Лагоморто, висящих по обе стороны от входа над узкими, длинными скамьями-ящиками со спинками, грубо разрисованными фамильными гербами, маркиз сразу догадался, кто находится у тетушки. И первым его побуждением было уйти — из робости, как бывало в те далекие времена, когда он не решался открыть девушке свои чувства, а также из боязни оказаться теперь лицом к лицу с ней, ведь она уже знала о планах тетушки баронессы и, может быть, даже о его нежелании, поскольку умение держать язык за зубами не было в числе Добродетелей старой синьоры.
Но дон Кармело уже поспешил доложить хозяйке:
— Маркиз пришел!
На какое-то мгновение растерялась и баронесса.