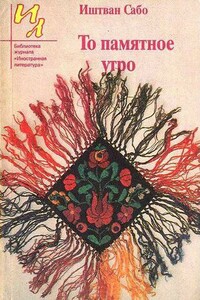Она уходит, ей нужно на митинг, спасать планету. Перед этим, однако, Терри подписывает каждый лист с планами. Это документация. Именно листы с ее подписью, а не сама инсталляция, будут потом продаваться. Реальным воплощением проекта она по контракту заниматься не должна.
Позже, в процессе натягивания бесчисленных пересекающихся, хаотических линий, Кира вдруг увлекается, Террины выверты начинают ей казаться осмысленными. Паутина, в которой бесконечно приходится решать: что сначала, что потом, что куда, в каком направлении… Выбрав одно, тем самым закрываешь себе путь ко всему другому. Тобою же добровольно выбирается невозможность дальнейшего выбора, невозможность свободного необдуманного движения. И вся эта путаница, повторяемость, несвобода и вправду ужасно напоминают семью. Хоть нетрадиционную, хоть традиционную, хоть двуполую, хоть однополую, хоть какую.
К концу дня они с Луисом устанавливают свет, и результат оказывается неожиданно красивым. Сама Терри, вернувшись с митинга, этого не замечает, она не планировала никакого эстетического эффекта. К эстетике она не только равнодушна, но и враждебна: красота – издержки буржуазного элитизма. Кроваво-красные нити среди серебрящейся паутины должны, по ее замыслу, с чем-то полемизировать и что-то символизировать. Ну и черт с ним, пусть себе символизируют.
Вот так всегда с искусством: не бывает окончательного мнения. Может, не зря Терри стала знаменита, желающих-то много. Может, и не так важно, что она дура.
«Не при ней будь сказано, – думает Кира, – красиво получилось…»
Эмоции, выхолощенные в нейтральном пространстве галереи, в равномерном освещении, в кондиционированном воздухе, кажутся обыденными и малозначительными. Вообще все эмоции. Ужасы здесь признаются только вычитанные в газетах; экзотические ужасы, не вызывающие никаких эмоций, кроме праведного возмущения. Социологические и политические ужасы, с которыми ты лично все равно ничего не можешь сделать, разве что подписать письмо, пожертвовать доллар на борьбу с тем или с этим. Ужасы, происходящие в дальних странах. Никогда не с одним человеком, а с тысячами, лучше – с миллионами.
Реальный запах крови, рвоты и экскрементов, почти неистребимый дома, несмотря на все усилия и Маргариты, и Киры, и постоянно сменяющихся уборщиц, – в галерее невообразим. Хотя именно эти элементы, в своей абстрагированной ипостаси, являются важной темой, а иногда и художественным материалом галерейных художников.
Посетители на вернисаже будут почтительными скучными голосами обсуждать крушение норм, кисло и вежливо дискутировать о сексуальных девиациях, нудить об иронии.
За это Кира и любит галерею. За антисептический, бесчеловечный, одуряющий эффект анестезии, за выморочные Террины проблемы. Иногда Кира ловит себя на том, что час, даже полтора часа подряд не думает ни о чем. Совершенно ни о чем.
Вечером Маргарита сдает ей Глашку, отчитывается о происшедшем и уходит в свой мир. И каждый вечер на очень короткий момент эмоции возвращаются к Кире все сразу и ее затопляют. Теории, которые так важны в мире авангардного искусства, не существуют в том мире, где есть Глашка. Нет на них времени. Коротким момент бывает потому, что эмоции тут же становятся невыносимыми и переходят в знакомую, унылую боль в животе. Это называется психосоматика. Для всякой хаотической реальности теперь есть умный термин – и для глубокомысленных Терриных ниточек, и для человеческой боли души и живота. Ведь Кира и сама принадлежит к избранному племени выпускников дорогостоящих университетов, которым платят за произнесение терминов. От терминов как-то легче и тем, кто платит, и тем, кому платят. Можно вскользь упомянуть, что коллекционируешь самый что ни на есть распоследний авангард, знаешь названия всех течений. Можно пересказать умный диагноз знакомым.
Одного лишь термина Кира так и не узнала, а ведь сколько лет Глашкин отец посылал запросы во все тамошние министерства и инстанции. Но ни разу оттуда не ответили. Кира не знает и не узнает никогда, что именно разрабатывали в ее родном городе, на режимном объекте № 435.