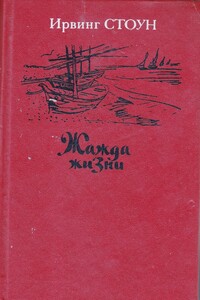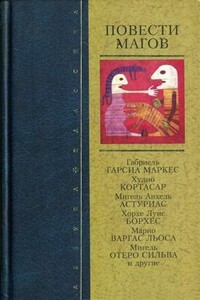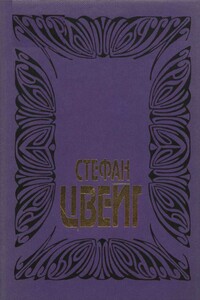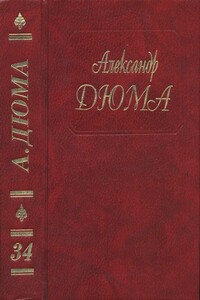— Все это, я уверен, нельзя было выразить иначе, как эвфемизмом. Это походило на пляску дикарей, на ритуальный танец обрученных, когда невеста, поворачиваясь, замирая, кружит возле мужчины, очаровывает его, то страстно предлагая себя, то отступая, чтобы разжечь желание. Только здесь пассивную роль играла она — она стояла чуть неуверенно, даже скованно, семеня по полу, не отрывая ног, покачиваясь всем своим миниатюрным и пухленьким тельцем, следя за мужчиной с терпеливой, кроткой улыбкой и шевеля ладонями, поднятыми вверх обороняющимся и просительным жестом. А он отплясывал вокруг нее, сгибаясь в поясе, то отдалялся, то приближался, что-то обещая и подтверждая выражением лица и притопыванием. Они танцевали так, потому что на них смотрели, но танцевали только для самих себя, окруженные тайной, недоступные вмешательству посторонних. У него рубашка была распахнута до пупка, и всем нам было видно, как он, весь потный от возбуждения, счастлив, что немного пьян и как бы в трансе от того, что на него смотрят и что она его ждет.
4
Тогда-то им впервые, как мы это предвидели, пришлось обратиться к нам. Однажды утром юноша явился в контору Гиньясу, видимо, только искупавшийся, пахнущий одеколоном, вертя в пальцах сложенную вдоль купюру в пятьдесят песо.
— Больше я не могу заплатить, по крайней мере наличными. Достаточно будет за консультацию?
«Я пригласил его сесть, думая о вас, друзья мои, и не вполне уверенный, что это он. Я откинулся в кресле, предложил ему кофе, не торопясь с ответом и извинившись, — надо, мол, подписать несколько документов. Но когда я почувствовал, что моя беспричинная антипатия рассеивается и ее сменяют любопытство и какая-то непонятная зависть, когда осознал, что его поведение, которое кто-нибудь счел бы дерзостью или наглостью, может быть чем-то иным, редкостным, почти волшебным из-за своей необычности, лишь тогда я убедился, что мой гость это тот самый парень в желтой рубашке и с розочкой в петлице, которого мы видели в дождливый вечер на тротуаре перед „Универсалем“. Не отказываясь от своей антипатии, я хочу сказать следующее: это человек, отродясь убежденный в том, что самое главное — это жить, и, следовательно, убежденный, что все, что помогает его жизни, важно, благородно и достойно. Я ответил, что за пятьдесят песо — тариф для друзей — я могу ему сказать, с точностью до нескольких месяцев, какое наказание ему грозит от законов, прокуроров и судей. И что я могу попытаться избавить его от этого наказания. Я хотел его выслушать и прежде всего получить эту зеленую бумажку, которую он рассеянно вертел в руке, словно был уверен, что такому человеку, как я, достаточно ее показать.
Наконец он развернул купюру и положил ее на письменный стол — я сунул ее в бумажник, и мы с минуту поговорили о Санта-Марии, о здешней природе и климате. Он поведал мне историю с письмом для Латорре и спросил, может ли он остаться жить в шале на берегу — то есть, конечно, он и она, такая молоденькая и в положении, — несмотря на разрыв со Шпехтом и на то, что договор об аренде был, как он выразился, только устным контрактом.
Немного подумав, я решил сказать, что такая возможность есть, — подробно объяснил его права, приведя параграфы и даты законов, юридические казусы. Посоветовал ему внести в суд как залог соответствующую сумму арендной платы и просить вызвать Шпехта для оформления существующего фактического контракта.
Я видел, что мой совет понравился, он одобрительно кивал с легкой улыбкой удовлетворения, будто слушал любимую и хорошо исполняемую далекую музыку. Одну-две фразы попросил повторить, извиняясь, что не вполне понял. Но, к сожалению, ничего больше — никакого искреннего восхищения, ни выражений благодарности. Ибо когда я прервал наступившую паузу и сонным голосом сказал ему, что все вышеизложенное точно соответствует юридической теории, применимой в данном случае, но в грязной практике сантамарианцев Шпехту достаточно поговорить по телефону с начальником полиции, чтобы он и его молодая супруга, ожидающая ребенка, были препровождены из шале в какой-нибудь населенный пункт на расстоянии двух лиг от городской черты, он рассмеялся, словно я его лучший друг, решивший изрядно пошутить. Он так развеселился, что я вынул было бумажник, намереваясь вернуть ему пятьдесят песо. Однако он на это не клюнул. Достал из переднего кармана брюк золотые часики, которые когда-то назывались châtelaine,