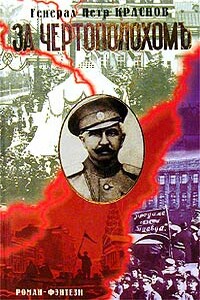— А что американецъ?
— Не приходилъ въ себя. Очень много онъ видно крови потерялъ. Да еще не было бы зараженія крови? «Шумъ» послалъ за тукуръ-хакимомъ.[68] Будутъ лѣчить. Плохъ онъ, твой американцъ.
— Какъ думаешь, что тутъ было?
— Думаю — рѣшили англичане…
— Оба?
— Ну, конечно, оба, — овладѣть твоимъ кладомъ, а какъ достали, значить его, увидали ихъ слуги несмѣтныя богатства, перебили англичанъ и забрали твой кладъ.
— Богъ съ нимъ и съ кладомъ, — сказалъ Коля. — Только бы домой вернуться къ мамочкѣ и Галинѣ.
Блѣдная улыбка освѣтила печальное лицо Коли.
— Э! Брось! говорю тебѣ, брось и думать, объ этомъ. Обо мнѣ уже слышали въ Аддисъ-Абебѣ. Меня знаютъ. Я до самого негуса дойду, я все узнаю, все отыщу. Ты отдохни здѣсь дня два, а потомъ, я просилъ тебя отправить къ геразмачу Банти. Тамъ Маріамъ за тобой присмотритъ. Славная Маріамъ, не правда ли?
— Да, славная Маріамъ, — печально сказалъ Коля.
— Ну, недѣля пройдетъ… Можетъ быть, — десять дней, и вотъ онъ и я самъ, своею собственной персоной. И съ кладомъ! Да еще, гляди, по дорогѣ четвертаго льва прихвачу. Дойдемъ… Нѣтъ — муловъ купимъ, — доѣдемъ до желѣзной дороги и ай-да! — поѣзжай домой! Кланяйся Натальѣ Георгіевнѣ и Галинѣ, привѣтъ нижайшій старому дѣдушкѣ, скажешь — за пятымъ львомъ уже пошелъ Мантыкъ.
— Да, хорошо, кабы такъ!
— Такъ оно, другъ мой, и будетъ. Не иначе. Не оставитъ ни твоего дѣла, ни тебя самого Мантыкъ!
Коля смотрѣлъ на своего друга. Мантыкъ снарядился въ путь. Шерстяная шама была скатана, сума набита провизіей, въ тыквенной гомбѣ булькалъ тэджъ… Длинный ножъ за малиновымъ поясомъ, — крѣпкій вышелъ поясъ, что сшилъ Мантыку Селиверстъ Селиверстовичъ, — ружье трехствольное за плечами. Бѣлые панталоны закручены, блестятъ смуглыя загорѣлыя колѣни, свѣжій шрамъ на лѣвой икрѣ, должно быть, вчера разодралъ себѣ ногу Мантыкъ.
— Что жъ, Мантыкъ, — тихо сказалъ Коля. — Съ Богомъ! Можетъ быть, ты и правъ… Но страшно мнѣ будетъ безъ тебя.
— Страшно? — поднялъ темныя густыя брови Мантыкъ, — а ты не бойся… Такъ меня дѣдушка училъ. И мнѣ никогда не страшно… Какъ же можетъ быть страшно, когда я не боюсь?
Съ луной ушелъ за горный перевалъ Мантыкъ. Коля тихо лежалъ на альгѣ. Отдыхали усталыя ноги. Все тѣло покоилось. Слушалъ, какъ затихала деревня, смолкало тонкое переливистое пѣніе женщинъ, лай собакъ и блеяніе стадъ. Угомонились люди и домашній скотъ, и тогда совсѣмъ близко, у околицы, зачакали и завизжали трусливые, вороватые шакалы. Въ затихшую деревню стали доходить таинственные страшные шумы пустыни. Что то рухнуло, ухнуло въ горахъ, эхомъ прокатилось по долинѣ.. То ли левъ рыкнулъ, настигая задремавшую антилопу, то-ли камень сорвался со скалы и съ грохотомъ полетѣлъ въ пропасть, ломая кусты.
Часовые, накрывшись шамами, лежали у входа. Не спали. Коля слышалъ, какъ они тихо переговаривались короткими фразами.
И тоскливо тянулась страшная, долгая, одинокая ночь.
Вдругъ, на другомъ концѣ деревни, залаяли, загомонили собаки, послышались людскіе голоса.
Уже не вернулся ли мистеръ Брамбль? Не добрый ли геразмачъ Банти, или Ато-Уонди поспѣшили на выручку мистеру Стайнлею и Колѣ?
Коля поднялся съ альги и подошелъ къ дверямъ.
— Нельзя! — прошепталъ часовой и, продолжая лежать, рукой показалъ Колѣ, чтобы онъ не выходилъ.
Засвѣтились свѣтильники и бумажные фонари. Къ Колиной хижинѣ приближалось человѣкъ двадцать абиссинскихъ ашкеровъ съ ружьями и копьями. Они подошли къ Колѣ. Коренастый крѣпкій человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, абиссинецъ съ негрскимъ, скуластымъ лицомъ, съ приплюснутымъ носомъ, въ шамѣ съ красною полосою, подошелъ къ Колѣ и, кладя руку на его плечо, сказалъ со спокойною твердостью.
— Я, баламбарасъ Ольде Силясъ, присланъ повелѣніемъ негуса арестовать москова Николая и, заковавъ въ цѣпи, доставить его въ Аддисъ-Абебу!
Странное безразличное ко всему спокойствіе нашло на Колю.
— Въ чемъ меня обвиняютъ? — сказалъ онъ. — Я не знаю никакой вины за собой.
— Я солдатъ, — отвѣчалъ Ольде — Силясъ. — Мнѣ не говорятъ, за что тебя арестуютъ, мнѣ только приказано заковать тебя и доставить въ Аддисъ-Абебу къ Афа-негусу