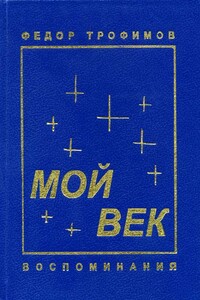Мать была такого же склада: сдержанная, работящая, но в будничных семейных заботах она казалась более строгой, чем отец.
Вообще чета Маминых была на удивление ладной. Еще смолоду близкие к ним с удовольствием отмечали это ровное горение любви между ними, заботу друг о друге, особенно когда разрослась семья и большие труды и беспокойства пришли в дом.
Отец Анны Семеновны, Семен Степанович («горнощитский дедушка», как звали его в семье Маминых), навестив дочь и зятя через год после рождения второго внука, Мити, писал им из-под Екатеринбурга, из сельца Горный Щит:
«Любезнейшие дети! Честнейший Наркис Матвеевич и Анна Семеновна!
Хотя и бегло, но с полным удовольствием и душевной радостью посмотрел я на ваше положение, притом довольно утешает меня неизменность вашей нравственности и мирное ваше соседство.
Диакон Симеон Стефанов».
После окончания Пермской семинарии молодой священник Мамин не кинулся по примеру других искать выгодную невесту. Сам из дьяконской семьи бедного прихода, еще будучи екатеринбургским бурсаком, при случайной встрече отличил миловидную скромную дочь вдового дьяка из пригородной деревни. Состоялось первое знакомство, а через несколько лет (все в памяти и сердце держал приглянувшуюся девушку) сватовство и женитьба. Наркис Матвеевич принял живейшее участие в образовании молодой жены: учил читать, писать, знакомил с художественной литературой. Сохранились листы плотной бумаги, теперь пожелтевшей и поблекшей, с нетвердыми строками руки Анны Семеновны. На иных просто были переписаны стихи Пушкина, Рылеева, Козлова, автора зазвучавшего в России навсегда «Вечернего звона», диктованные мужем по памяти или списанные самой из книг. Научиться писать свободно было страстной мечтой молодой попадьи. В дневнике, который она завела, как только подобающе научилась грамоте (дневники, постоянные записи вел и муж, это стало семейной традицией, сам Дмитрий Наркисович до смерти матери чуть ли не каждодневно и обстоятельно писал ей), Анна Семеновна за два месяца до рождения Мити писала: «Как жаль, что не воротишь прошлого, как жаль, когда я была маленькой девочкой, мне много не объяснили и не показали.
Тогда я чуть не каждый день жалею о том, что не умею хорошо писать. Я очень часто писала бы в Горный Щит, по крайней мере недели через две, а не через месяц и полтора, как это теперь делается, и при том не затрудняла других, а какое удовольствие было бы для маменьки почаще получать от нас письма. Это ее первая просьба к нам». Маменька — так звала она бабушку, которая после смерти дочери навсегда осталась в доме зятя, чтобы растить малолетнюю Аню и ее сестренку.
Первый приход, который получил отец Наркис, был в деревне Егва под Кудымкаром. Унижала необходимость жить подаянием полунищих прихожан, собирая с них натурой и полушками. Счастливый случай помог молодому священнику перебраться в Висим, на демидовский завод. Отпала унижающая гордость зависимость, пришел относительный достаток. От Демидова положено было твердое содержание. Жалованье священнику составляло 142 рубля 86 копеек (дьякону — 71 рубль 43 копейки, дьячку — 57 рублей 15 копеек, пономарю — 50 рублей). От завода же — дом, к нему двадцать пять сажень березовых дров для отопления и два пуда сальных свечей для освещения. Оклад приблизительно равнялся окладу хорошего мастерового. Доброй прибавкой был хлебный провиант: супругам по восемнадцати пудов ржи, а детям, смотря по возрасту, — от четырех с половиной до восемнадцати пудов. Но ни усадебной, ни пахотной земли, ни покоса не давалось. При доме был небольшой огород, на котором выращивалась зелень к столу, а также Наркис Матвеевич держал обихоженную тепличку.
Доход от прихожан (их значилось в приходе Анатольевской церкви мужских душ — 855, женских — 935) был невелик. Все церковные услуги, если сказать по-нынешнему, оплачивались скудными копейками тех, кто «сжигал» себя на кричной и пудлинговой фабриках, при углежочных кучах, изламывался при валке леса и заготовке дров или «закапывался» в землю на платиновых и золотых приисках. Крещение младенцев, венчание, панихиды, отпевания стоили, как правило, до полтины.