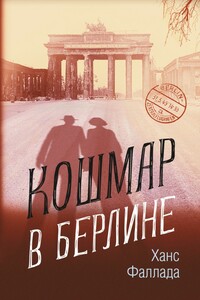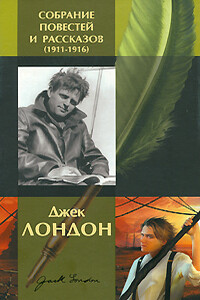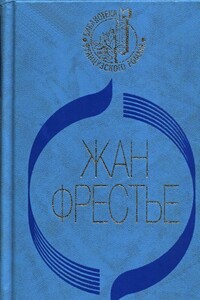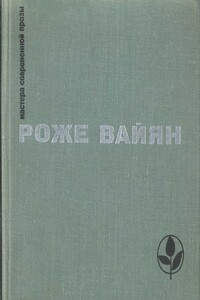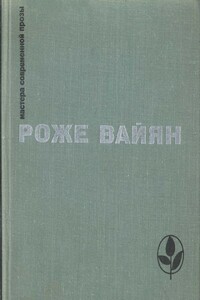— Да, с таким товаром нынче трудно, — вставляет Пиннеберг.
— Вот-вот! — подхватывает она благодарно. — Очень трудно. Сколько лестниц обегаешь за день, а и на пять марок не продашь. Ну да это еще с полбеды, — говорит она и силится улыбнуться, — ведь у людей действительно нет денег. Если б только некоторые не вели себя так безобразно! Видите ли, — осторожно произносит она, — я ведь еврейка, вы заметили?
— Нет… не так чтобы очень…— смущенно отвечает Пиннеберг.
— Так вот, — продолжает она, — это все-таки заметно. Я все время говорю Максу, что заметно. И я думаю, что эти люди — ну, антисемиты — должны бы прибивать табличку на двери, чтобы их не беспокоили понапрасну. А то всегда как гром с ясного неба: «Катись отсюда со своей срамотищей, тоже мне товар, жидовская морда!» — сказал мне один вчера.
— Ну и мерзавец! — возмущается Пиннеберг.
— Я уже подумывала, не порвать ли мне с иудейством. Я, видите ли, не очень-то верующая, ем свинину, и все такое прочее. Но как сделать это сейчас, когда евреев поносят везде?
— Вы правы, — обрадованно говорит Пиннеберг. — Сейчас этого лучше не делать.
— Так вот, а теперь Макс говорит: обязательно вступай » их общество; у них я смогу хорошо зарабатывать. И он прав. Видите ли, почти всем женщинам — о девушках я не говорю — необходимо носить пояс или что-нибудь для груди. И здесь я отлично вижу, кому что нужно, недаром я торчу тут уже третий вечер. Макс говорит: решайся же наконец, Эльза, дело-то верное. А я все никак не могу решиться. Понимаете?
— О да, очень даже понимаю. Я тоже все никак не решусь.
— Стало быть, вы считаете, что мне лучше воздержаться, несмотря на деловые соображения?
— Тут трудно что-либо советовать, — говорит Пиннеберг, задумчиво глядя на собеседницу. — Вам лучше знать, насколько это вам необходимо и выгодно.
— Макс очень рассердится, если я откажусь. Последнее время он вообще стал таким раздражительным, боюсь, как бы…
Пиннеберга вдруг охватывает страх, что она поведает ему еще и эту главу своей жизни. Она такая маленькая, жалкая, невзрачная, и, слушая ее, он все время почему-то думал: лишь бы не умереть слишком рано, лишь бы Овечке не пришлось так мучиться. Он не может представить себе, как сложится в дальнейшем жизнь фрау Нотнагель. Впрочем, довольно с него тоски на этот вечер, и он вдруг обрывает ее очень невежливо:
— Простите! Мне нужно позвонить. А она говорит очень вежливо:
— Да, да, конечно, не смею вас задерживать. И он уходит.
ПИННЕБЕРГУ ВЫСТАВЛЯЮТ КРУЖКУ ПИВА. ОН ИДЕТ ВОРОВАТЬ ЦВЕТЫ И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОВОРИТ НЕПРАВДУ СВОЕЙ ОВЕЧКЕ.
Пиннеберг не стал прощаться с Гейльбутом. Наплевать, пусть обижается. Ему попросту невмоготу дольше слушать эту тягучую, тягостную болтовню, он улизнул.
Он пускается в путь — в долгий путь с восточной окраины Берлина до Альт-Моабита, в Северо-Западном районе. Идти на своих двоих вполне его устраивает, ведь до двенадцати еще далеко, да и мелочишку за проезд сэкономишь. Время от времени он мельком думает об Овечке, или о фрау Нотнагель, или о Иенеке — тот скоро станет заведующим отделом, потому что господин Шпанфус, как видно, не особенно жалует Крепелина, — но, в сущности говоря, не думает ни о чем. Так, шагает себе и шагает, заглядывает в витрины, мимо проносятся автобусы, и световые рекламы такие красивые, и в голове нет-нет да мелькнет: «Она ведь женщина, разума у нее нет». Так, кажется, сказал Бергман? Что он понимает, этот Бергман. Вот если бы он знал Овечку!
Так он шагает, и когда приходит в Альт-Моабит, уже половина двенадцатого. Он осматривается, откуда бы позвонить подешевле, но потом все же заходит в ближайшую пивную и спрашивает кружку пива. Он будет пить ее медленно-медленно, выкурит пару сигарет и потом только пойдет звонить, потому что как раз тогда истекут остающиеся до полуночи полчаса.
Но не успели принести пиво, как он уже вскакивает и бежит к телефонной будке. Монета у него давно зажата в кулаке — да, да, давно держит в кулаке — и он вызывает Моабит 8650.
Сначала отвечает мужской голос, и Пиннеберг просит родильное отделение. Затем проходит долгая пауза, и женский голос спрашивает: