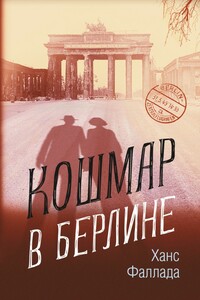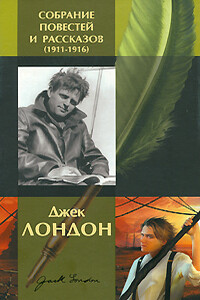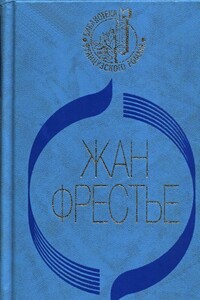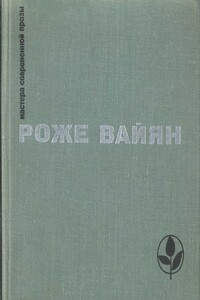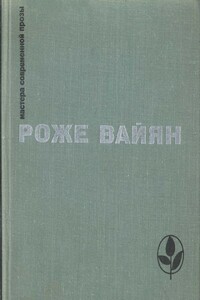Он торжествующе смотрит на них, они в смущении пробираются на свои места. Но Клейнгольц не отстает
— Да, Шульц, милый человек, вы, конечно, не прочь после пьянки проспаться в конторе, на мои кровные денежки. Похороны-то, видно, сильно вспрыснули, а? Знаете что? — он задумывается и наконец нападает на блестящую мысль: — Знаете, полезайте-ка в прицеп и езжайте на мельницу. Да смотрите как следует тормозами орудуйте, дорога ведь то в гору, то под гору, я скажу шоферу, пусть он за вами присматривает, а если вы о тормозах позабудете, пусть влепит вам как следует.
Клейнгольц хохочет он думает, что сострил, потому и хохочет. О том, чтоб «влепить», это, конечно, сказано не всерьез, даже если это и сказано очень серьезно.
Шульц устремился к двери.
— Куда вы без документов? Пиннеберг, выпишите Шульцу накладную, ему самому сегодня не написать, у него руки трясутся.
Пиннеберг, обрадовавшись, что у него есть занятие, ретиво строчит.
Затем вручает Шульцу документы.
— Вот держи.
— Еще минутку, Шульц, — говорит Эмиль. — Вы до двенадцати не обернетесь, а по договору я обязан предупредить вас об увольнении до двенадцати. Знаете, я сам еще не знаю, кому из вас троих дать расчет, мне надо подумать… Вот я на всякий случай и предупреждаю вас об увольнении, вот вам и будет над чем подумать дорогой, я уверен, что это вышибет из вас хмель, особенно если вы еще и тормозить хорошенько будете.
Шульц молча шевелит губами. Как уже было сказано, лицо у него желтое, помятое, а сегодня ему, кроме всего прочего, нездоровится, и сейчас здесь, перед Клейнгольцем, уже не человек, а просто тряпка…
— С вами покончено! — говорит Клейнгольц, — когда вернетесь, приходите в контору. Я вам скажу, может быть, я и возьму свое предупреждение обратно.
Итак, с Шульцем покончено. Дверь захлопнулась, и медленно, дрожащей рукой, на которой блестит обручальное кольцо, Пиннеберг отодвигает от себя пресс-папье. «Кто сейчас на очереди, я или Лаутербах?»
Но уже при первом слове он понимает: Лаутербах. С Лаутербахом у Клейнгольца совсем другой тон. Лаутербах глуп, но силен, если Лаутербаха очень уж раздразнить, он пустит в ход кулаки. Над Лаутербахом так издеваться нельзя, с Лаутербахом надо иначе. Но Эмиль умеет и это.
— Глядеть на вас, господин Лаутербах, просто жалость берет. Глаз подбит, нос красный, губами едва шевелите, одна рука… Нечего сказать, полноценный работник. Хотите жалованье сполна получать, так извольте так работать, чтобы ни к чему придраться нельзя было.
— У меня работа спорится, — говорит Лаутербах.
— Тише, Лаутербах, тише. Знаете, политика — это хорошо, и национал-социализм тоже, может быть, хорошо, это мы после ближайших выборов увидим и тогда скажем, но чтобы именно я нес убытки…
— Я от работы не отказываюсь, — говорит Лаутербах.
— Ну, да это мы еще увидим, — мягко говорит Эмиль. — Не думаю, чтобы вы сегодня могли работать, у меня работа… вы же совсем больны.
— Я от работы не отказываюсь… от любой.
— Ну, раз вы так говорите. Лаутербах… Только мне что-то не верится. Бромменша меня в прошлый раз подвела, и нам нужно еще раз пропустить через веялку озимый ячмень, вот я и подумал… собственно, я хотел вас Попросить, чтобы вы повертели барабан…
Это уже был верх подлости, даже со стороны Эмиля. Потому что, во-первых, вертеть барабан никак не входит в обязанности служащего, а во-вторых, для этого нужны две здоровые и сильные руки.
— Видите, я так и думал, вы инвалид, — говорит Клейнгольц. — Ступайте домой, Лаутербах, но за эти дни я с вас вычту. То, чем вы больны, не болезнь.
— Я от работы не отказываюсь, — упрямо повторяет разъяренный Лаутербах. — Не отказываюсь вертеть веялку. Можете не беспокоиться, господин Клейнгольц!
— Ну, ладно, около двенадцати я поднимусь к вам и скажу, как я решил с увольнением.
Лаутербах что-то невнятно бормочет, и только его и видели.
Теперь они остались одни. «Сейчас за меня примется», — думает Пиннеберг. Но, к его удивлению, Клейнгольц говорит вполне дружелюбно:
— Нечего сказать, хороши у вас сослуживцы — что один, что другой — оба дрянь, разницы никакой. Пиннеберг молчит.