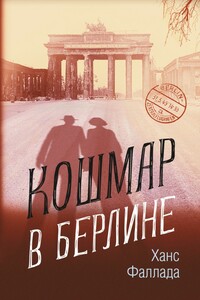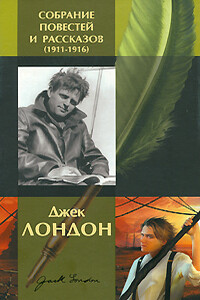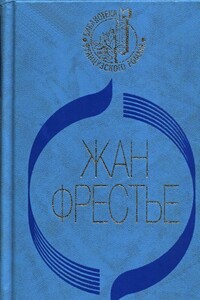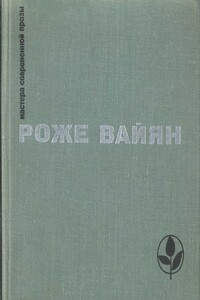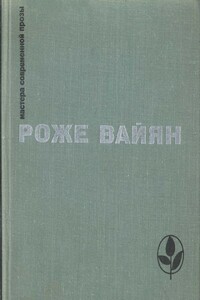— Мать должна была бы стыдиться, — заявил Пиннеберг.
— Но, миленький, ведь она уже двадцать лет как овдовела!
— Все равно! Да к тому же у нее их несколько было.
— Ганнес, я у тебя тоже не первая.
— Это совсем другое дело.
— Что же тогда должен сказать Малыш, если он высчитает, когда он родился и когда мы поженились.
— Это еще совсем неизвестно, когда родится Малышок.
— Отлично известно. В начале марта.
— Как же так?
— Да, да, мальчуган! Я-то знаю. И твоей матери я напишу, это надо.
— Делай как знаешь, только я об этом больше слышать не хочу.
«Милостивая государыня», — ужасно глупо, правда? Так не пишут. «Дорогая фрау Пиннеберг». — Но ведь это же я сама, и это тоже как-то не звучит. Ганнес, конечно, прочитает письмо.
«Ах, что там, — думает Овечка, — или она такая, как Ганнес думает, и тогда все равно, как ни написать, или она по-настоящему славная женщина, так уж лучше напишу ей, как хотела. Итак…»
«Дорогая мама! Я ваша новая невестка Эмма, по прозвищу Овечка, мы с Ганнесом обвенчались позавчера, В субботу. Мы счастливы и довольны, и были бы еще счастливее, если бы вы порадовались вместе с нами. Нам живется хорошо, только Ганнесу, к сожалению, пришлось оставить готовое платье, теперь он работает в фирме, торгующей удобрением, что нам не очень нравится.
Вам шлют привет Ваши Овечка и …»
Она оставляет свободное место. «Письмо ты все-таки подпишешь, милый!»
У нее еще полчаса времени, она достает книгу, купленную у Викеля две недели тому назад: «Святое чудо материнства».
Читает, наморщив лоб: «Да, с появлением ребеночка наступают счастливые, светлые дни. Этим божественная природа возмещает человеческое несовершенство».
Овечка старается понять прочитанное, но смысл ускользает от нее, ей кажется, что это очень трудно и непосредственно к Малышу не относится. Затем следует стишок, она медленно несколько раз перечитывает его.
О младенца уста, о младенца уста!
В вас мудрость живет ясна и чиста!,
Ведь ребенок пернатых язык,
Словно царь Соломон, постиг.
И его Овечка тоже не совсем понимает. Но стишок какой-то такой радостный. Она откидывается на спинку стула, теперь часто бывают минуты, когда она остро ощущает в своем лоне драгоценную ношу. Она сидит с закрытыми глазами и повторяет про себя:
Ведь ребенок пернатых язык.
Словно царь Соломон, постиг.
Она чувствует: «Это, должно быть, самое радостное, что только есть на свете, Малышок должен всегда радоваться!..»
— Обед готов? — раздается еще из передней голос Ганнеса. Вероятно, она вздремнула, теперь она часто бывает такая усталая.
«Обед!» — вспоминает она и медленно встает.
— На стол еще не накрыла? — спрашивает он.
— Сейчас, милый, сию минуту, — она бежит на кухню. — Можно прямо в кастрюле на стол? Но я с удовольствием подам и в миске!
— А что у нас?
— Гороховый суп.
— Чудно. Ну, давай прямо в кастрюле. А я пока накрою на стол.
Овечка наливает ему тарелку. Вид у нее немного испуганный.
— Жидковат? — озабоченно спрашивает она.
— Наверно, хорош, — говорит он и разрезает на маленькой тарелке мясо.
Она пробует суп.
— Господи боже мой, жидкий какой! — невольно вырывается у нее. А затем следует: — Господи, а соль!
Он тоже опускает ложку; теперь они смотрят друг на друга поверх стола, поверх тарелок, поверх большой коричневой эмалированной кастрюли.
— А я думала, суп будет такой вкусный, — сокрушается Овечка. — Я все, что нужно, купила: полфунта гороха, полфунта мяса, целый фунт костей, суп должен был получиться очень вкусный!
Он встает и сосредоточенно мешает большим эмалированным уполовником в кастрюле.
— Только и попадается гороховая шелуха! Сколько ты воды налила?
— Это горох виноват! Никакой от него густоты!
— Сколько воды налила? — повторяет он.
— Полную кастрюлю.
— Пять литров и на них — полфунта гороха. Мне думается. Овечка, — говорит он, напуская на себя таинственность, — это вода виновата. Вода слишком жидкая.
— Ты думаешь, я налила слишком много воды? — огорченно спрашивает она. — Пять литров. Но я варила на два дня.
— Пять литров… мне думается, на два дня это многовато. — Он пробует еще ложку. — Прости меня, Овечка, но это, правда, одна горячая вода.