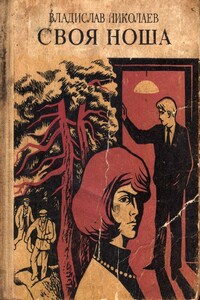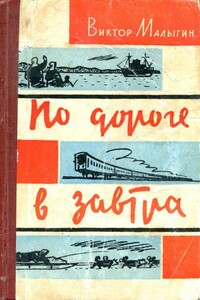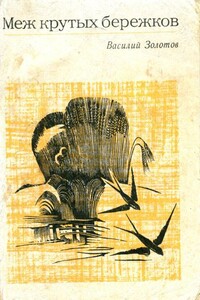Если б слышали те, о ком
Эта песня сейчас звучала,
Прибежали б сюда пешком,
Чтоб услышать ее сначала.
Потом вспоминали о том, как добывали перец. Ни в одном доме, тем более в магазинах, его не оказалось: давно уже числится в дефицитных товарах. А какая без перца уха в тайге? Побежали в ресторан, где проворная официантка быстренько исполнила заказ — принесла на блюдце тощенький пакетик, а поверх него счет, в котором черным по белому значилось: семь пятьдесят.
— Что сие означает? — не поняли заказчики.
— Цена, — удивившись наивности вопроса, пожала плечами официантка. — Семь рублей пятьдесят копеек. У нас все с ресторанной наценкой. Хотите берите, хотите не берите.
Опять же: какая без перцу уха у студеной реки на Полярном Урале. Пол-ухи. И то лишку. Четверть ухи. Делать нечего — взяли. Но с того часа слово «перец» исчезло из обихода и заменило его «семь пятьдесят». Надо кому-то поперчить уху, протягивает руку и просит:
— Подайте-ка «семь пятьдесят».
— Возьми, — отвечают ему. — Только не забывай: семь пятьдесят, поэкономнее сыпь.
В первую ночь мы разместились в двух палатках, кто с кем пожелал, но уже в следующую Командир перетасовал всех по признаку: храпит — не храпит. Так появилась палатка «дизелей», и когда жильцы в ней засыпали, в другой палатке комментировали:
— Пускачи запустили, вишь, как стрекочут!
— А вот и дизеля включились. Будто тягачи в болоте завязли — надсажаются!
Шагастый Директор при первом же переходе натер весьма деликатное место. Друзья отнеслись с пониманием и сочувствием к его несчастью:
— Подшипник загорелся. Что ж, случается.
Бывали шутки покрепче, посолонее, по-своему тоже хороши и остроумны, но, к сожалению, и документальная проза не все терпит, требует отбора.
В разговорах у вечернего костра я часто слышал фамилию Базилевича, но долго пропускал ее мимо ушей: мало ли о ком говорят. В этот раз я вслушался, вник в то, что рассказывал Командир.
— Ходил он всегда напрямик. Болото так болото. Валежник так валежник. Кручи так кручи. Не признавал никаких петлястых троп и обходных путей, пускай и очень удобных. Идет впереди, плечистый, высокий, и ни разу не оглянется, как бы громко за спиной ни роптали. Роптал и я. Какого черта затащил нас в чащину, где, того и гляди, ногу сломаешь? Все мнилось за его спиной: сбились с направления, надо принять вправо или влево. Орешь ему, а он и ухом не поведет. Прет дуроломом — что лось. И вдруг раньше ожидаемого выскакиваешь к цели. Ни на полшага не ошибется, точка в точку выведет. Ориентировался в лесу, что в собственной квартире. С завязанными глазами не заблудился бы.
— А кто он, этот Базилевич? — наконец спросил я.
И наперебой поведали мне о человеке, оказавшем неизгладимое влияние на моих спутников.
Был он из породы сеятелей, щедрою рукой разбрасывающих вокруг себя семена разумного и вечного. После окончания Свердловского горного института приехал в Тагил на Высокогорский железный рудник с желанием не только приложить инженерные знания, но и отдать людям весь свой душевный жар и опыт. Молодой маркшейдер пошел по цехам, по шахтам и рабочим общежитиям, собирая вокруг себя бойких тагильских парней и рассказывая им о неизведанных краях, звериных тропах и ночных кострах.
Натаскивал подопечных с малого — с маршрутов выходного дня. Заленится кто-нибудь — на своем мотоцикле вывезет в лес. Бывало, два-три рейса сделает, доставляя на стоянку неохочих и нерадивых. А там учил расторопно и проворно ставить палатки, укладывать рюкзаки, ходить и бегать по компасу, учил взаимовыручке и дружбе. Потом он вывел ребят на соревнования по спортивному ориентированию, организованные по его инициативе впервые в Тагиле. Выиграв состязание, они отправились в свой первый дальний маршрут на красивейшую реку Приполярного Урала — порожистый Щугор.
Лет десять назад Владимира Базилевича направили на работу в Алжир, и там он погиб в шахте, раздавленный обвалившимся заколом. Хоронили его в Тагиле, за цинковым гробом шла тысячная скорбная процессия: друзья, ученики, последователи. Ныне каждый год в Тагиле разыгрывается по спортивному ориентированию приз имени Базилевича, а память о нем несут по таежным тропам в своих сердцах тагильские рабочие-туристы.