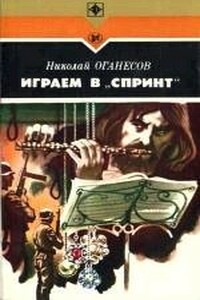Олег Станиславович провел рукой по спинке стула. Под его ладонью засверкала полированная поверхность темно-красного цвета.
– Благородное, старое дерево, – сказал он с каким-то особенно теплым чувством и добавил уже совсем другим тоном: – И он собирался отдать ее соседу. Представляете?
– Самое ценное, если я не ошибаюсь, здесь – картины?
– Совершенно верно. – Маркин вышел на середину комнаты, стал под люстрой и торжественно обратился ко мне:
– Вам, очевидно, будет небезынтересно узнать историю коллекции, которую видите перед собой. – Он воздел палец к потолку. – Ее собрал отец Елизаветы Максимовны, он был известным актером. Всю свою жизнь играл на лучших сценах Петербурга и Москвы и только на старости лет переехал с женой и дочерью сюда, на юг. Этого требовало состояние его здоровья. Сомов был человеком высокой культуры, широких взглядов. Обладал разносторонними интересами. Вращался в кругу поэтов, художников, был вхож к ним. Сегодня это звучит неправдоподобно, но он дружил с Нестеровым, Серовым. Знал Александра Блока, Ермолову, Станиславского. Неоднократно бывал в «Пенатах» у Ильи Ефимовича Репина. Естественно, он интересовался живописью. Иногда он покупал картины, иногда их дарили ему. Так собралась коллекция, в которой есть две акварели Васнецова, несколько этюдов Коровина, Рябушкина, Степанова, малоизвестный набросок Врубеля к его знаменитому «Демону» и целый ряд ценнейших работ неустановленных живописцев. – Маркин, казалось, стал выше ростом. Он потеребил бородку, глаза его блестели. – Еще молодым человеком я имел счастье общаться с Максимом Александровичем, отцом Лизы, и узнал от него историю каждого приобретения. После смерти Сомова вся коллекция перешла к его единственной дочери. Лет двадцать назад коллекция была учтена, ее осмотрели специалисты и пришли к выводу, что вся она состоит из подлинников. С тех пор ваш покорный слуга по поручению руководства музея изредка навещал Вышемирских. Пока была жива Елизавета Максимовна, о приобретении коллекции музеем не могло быть и речи – слишком дороги были для нее картины. Она поместила их в свою комнату и тщательно следила за ними. Но после ее смерти Иван Матвеевич забросил коллекцию. – Олег Станиславович решил, что выразился слишком резко, и поправился: – Вернее, перестал ею интересоваться. Он был образованнейшим, культурнейшим человеком, известным ученым, но в живописи, простите, не понимал ничего. Абсолютно ничего. Что называется, был полным профаном. Я уговаривал его, конечно, от имени дирекции музея, продать картины. Он отвечал отказом, говорил, что это память о жене, придет, мол, время и он бесплатно передаст коллекцию государству. Нам не оставалось ничего другого, как ждать. И, представьте, дождались. Недели две назад Иван Матвеевич позвонил ко мне домой и попросил зайти. Я пришел. И что вы думаете? Фантастика! Он сообщил, что ему негде держать книги и что он решил полностью освободить комнату покойной супруги, чтобы устроить в ней библиотеку. Как вам это нравится?
– А что, его можно понять, – рискнул вставить я.
– Ну, знаете! Это несерьезно. Расстаться с коллекцией, которой нет цены, отдать антикварную мебель постороннему человеку. И все из-за того, что некуда складывать книги!
– А кому он собирался отдать мебель? – спросил я.
– Своему соседу – Корякину. – Олег Станиславович нервно прошелся из угла в угол, заложив руки за спину и воинственно задрав голову.
– Подождите меня минутку, – попросил я, прошел в комнату Юрия и вернулся с незаконченной репродукцией в руках.
– Что вы на это скажете, Олег Станиславович?
Маркин сначала недоверчиво взглянул на меня, потом на картину, достал из внутреннего кармана пиджака футляр, вытащил очки в круглой пластмассовой оправе и, не раздвигая дужек, приставил их к глазам.
– Где вы ее взяли? – Он внимательно осмотрел полотно, потом перевел взгляд на подлинник, висевший в комнате. – Это «Охота на лис» кисти Степанова. Между прочим, великолепная работа!
– Вы имеете в виду подлинник или копию?
– Подлинник не нуждается в моей оценке. Я имею в виду как раз копию. Кто писал, если не секрет?