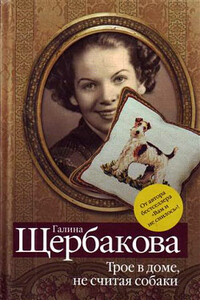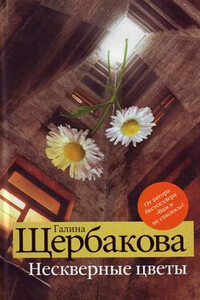– Постой, – вмешался Вася, – а киты?
– Что – киты?
– Они тоже теплые и гудят. Я читал, они песни поют, идет стадо и поет, а другое стадо за тысячу километров его слышит.
– Киты, – сказал сэконд, – явление природное. Океан к ним привык. А мы каких-то паршивых двести лет плаваем на железках. Ему противно. Зудит везде. Вроде блох или еще чего похуже.
– Ты, Коля, – доброжелательно сказал Вася, – фантастику любишь. Стругацкие, Лем… Мыслящая плазма, то-се…
– А какая разница? Я читал, вода, если ее много, тоже не просто вода. Вся между собой связана. Вся.
– Ты хочешь сказать, мой мариман, что весь Мировой океан – одна большая молекула? – уточнил Вася.
– Ну да. И внутри нее, внутри этой штуки все движется. Течения глубинные, донные… Слои пресной воды, тяжелой воды, холодной воды. И галлюцинирует он, сам себе, просто так, для интереса. То есть, я думаю, НЛО всякие… это его глюки. Недаром люди видели, как они из океана взлетали. А до этого – сирены, русалки. Чудовища на скалах. Тоже глюки. Он наводит. Он и «Марию Целесту» распугал. Нарочно.
– Насчет НЛО не уверен, – возразил Вася, – Леонов вроде видел, когда в открытый космос выходил. Кстати, американцы наблюдали на обратной стороне Луны какие-то корабли на грунте. Вообще – объекты на грунте. И огни.
– Вася, а ты откуда знаешь? – удивилась Петрищенко.
– Так записи переговоров же есть, – пояснил Вася.
– Наверняка секретные.
– Ну и что?
– Верно, – согласился Трофименко. – От людей ничего не скроешь. Ну, будьмо.
– Будьмо. Я так думаю, их лет через тридцать рассекретят. Тогда мы все узнаем. Есть на Луне наши братья по разуму или нет. И какого черта они там делают. Так ты из-за НЛО списался или что?
– При чем тут НЛО, – отмахнулся Трофименко. – Что я, НЛО не видел? Просто нервы стали никуда.
– Это я вижу. Пить, Коля, надо меньше. Я знаю, я опытный.
– Ни хрена ты не видишь. Что пальцы трясутся, это, извиняюсь, фигня. Цветочки. А ягодки это там, в море. Прикинь, восьмибалльный вторую неделю подряд, вахта тяжелая, несколько ночей не спал. И вот начинаю слышать музыку. Играет все время, играет. И казачий хор поет.
– Радио у кого-то играет, а тебе фонит. По переборке или там вентиляция…
– Я и сам сначала так подумал. Но казачий хор петь пять часов подряд не может! А потом оно еще со мной говорить начало.
– Кто?
– Так радио же. Боцман, говорит, соскочить собирается, ты рапорт на него подай, а не подашь, тебя из каюты выселят. А у меня хорошая каюта была, удобная. Жалко.
– Подал рапорт?
– Вот еще. Буду я какому-то радио верить. Боцман у нас хороший мужик, старательный.
– Соскочил?
– Где? Посреди океана? Нет, в порту приписки сошел, все как положено, не просыхал весь рейс – это да. Но знаешь, что смешно? Из каюты-то и правда выселили, к третьему подселили. Под совершенно идиотским предлогом. Все, думаю, пора на берег. Жена опять же заела. Хватит, хватит, мол, поживем как люди. А сама взяла и ушла, с этим… И где были мои глаза? Ведь что такое крашеная блондинка? Заведомо нечестная женщина!
– Коля, ты гонишь. Уводишь от темы. Ты про последний рейс давай.
Трофименко покачал в стакане водку, на манер коньяка, он и стакан держал словно коньячную пузатенькую рюмку.
– Да, – сказал он наконец, – паршивый рейс. Хуже еще не было. Заводили судно в порт, чуть танкер кормой не задели… И вообще паршиво, собачились всю дорогу, комсостав собачился, а это последнее дело. Бабкин этот ходит, и лицо у него…
– Да?
– Уши острые, или… если краем глаза посмотреть, так и не Бабкин вовсе… и усмехается. А потом и вовсе рехнулся, все бежать куда-то пытался. Повязали его.
Он замолк.
Слышно было, как за дверью в длинном темном коридоре старуха говорит по телефону, жалуясь на плохое пищеварение.
– Выпьешь еще?
– Я да, – охотно согласился Вася. – Не смотрите так, Лена Сергеевна, я в норме. Закусить у тебя есть чем, друг?
– Шпроты где-то были, – неопределенно ответил Трофименко.
– Тащи их сюда.
Трофименко вышел, зацепившись плечом о дверной косяк. Вася оглянулся на дверь, быстро встал, провел руками по кителю, сверху вниз, и вернулся на место.
Вернулся сэконд, поставил на стол банку плавающих в масле шпрот, и к ним – нарезанный толстыми ломтями серый зачерствевший хлеб. Петрищенко вдруг поняла, что ему, сэконду, перед ними, и особенно перед ней, очень неловко и что сэконд привык к совсем другой жизни, легкой и красивой.