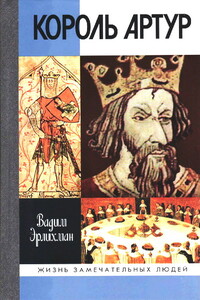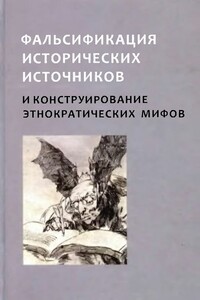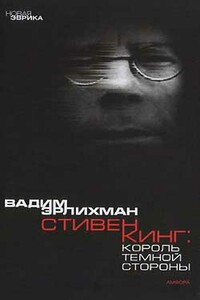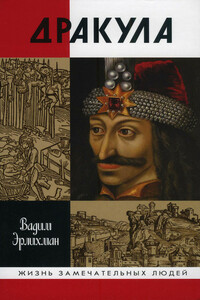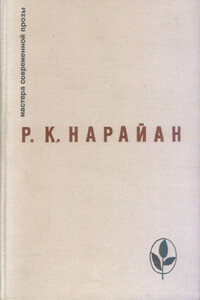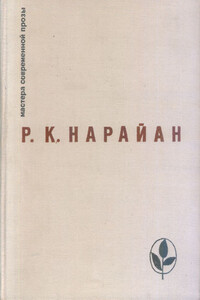Самый древний, мифологический слой представлен в Мабиноги очень широко, хоть и переработанный монахами-редакторами. Его конкретные примеры рассматриваются в примечаниях; здесь достаточно сказать об основных тенденциях. Как и в ирландской псевдоисторической схеме "завоеваний", языческие боги в валлийских легендах превращаются в допотопных правителей Британии и Уэльса, могучих чародеев или зловредных трикстеров. Обычными являются путешествия героев в потусторонний мир за знаниями или чудесными предметами; часть персонажей явно наследует признаки первопредков или культурных героев - устроителей мира. Hо в целом связность и последовательность мифа утрачена; сюжет тяготеет скорее к волшебной сказке с ее типичными коллизиями "поисков" или "потериобретения". Притом в Мабиноги сохраняются необычайно архаичные для европейской литературы образы и целые словесные блоки; некоторые из них несут даже пережитки тотемизма или других первобытных верований, очень любопытные при сопоставлении с мифологией других народов. Большая роль уделена божествам потустороннего мира (превращенным христианской редакцией в "бесов", "ведьм" и др.), которые то и дело вторгаются в жизнь людей. "Мир чудесного" в Мабиноги еще по-варварски груб, но в нем естественно укореняются более символизированные образы поздней европейской эсотерики (так, Святой Грааль - переосмысленный "котел изобилия" кельтской мифологии, но в то же время и символ приобщения к божеству христианской легенды). Совершенно особым образом эсотерическая традиция отражается в "видениях" и "пророчествах", представленных в настоящем сборнике "Историей Талиесина" из "Книги Талиесина", записанной в XIII веке (о ее составе и происхождении см. в примечаниях). В произведениях, приписанных барду VI века Талиесину, причудливо преломляется. стилистика индоевропейских священных гимнов, воспевается эпический герой - поэт и воин и в то же время слышатся отзвуки раннехристианских и гностических философских концепций. Талиесин существовал на самом деле, как и многие из упомянутых в Мабиноги лиц - Максен Вледиг (Магн Максим), короли Уриен и Мэлгон Гвинедд, герой борьбы против Рима Касваллаун и другие. Hо для легенды это лишь условные имена, наполняемые сказочным содержанием. Hе важно, тождественны ли правитель Думнонии Марх ап Мейрхион и король Марк из легенд о Тристане, король Мерсии Оффа и Осла Длинный Hож, реальный Артур и могучий повелитель Британии - все они вплетаются в причудливый узор "Мабиногион", где меж людей ходят волшебники и полубоги, а среди реальных имен вдруг появляются древние тотемы (например, "кабан" Килох или Рианнон - персонифицированное конское божество). Псевдоистория участвует в Мабиноги героями и сюжетами, но не концепцией. Хотя сочинение Гальфрида было почти наверняка прочитано редакторами сборника, его пафос прославление древнего царства бриттов - остался невостребованным. Действие Мабиноги (кроме "Видения Ронабви") происходит в условном "хронотопе" легенды, но если в начале это доисторическая утопия мифа, то в конце, в "артуровской" части,внеисторическая утопия рыцарского романа. Здесь исчезают даже столь обильные в "Ветвях Мабиноги" топографические реалии Уэльса; королевство Артура призрачно - у него есть центр (Каэрлеон или Камелот - не важно) и сплошная периферия, "глухой лес", где совершаются рыцарские подвиги. Это тоже интересно, но кельтская специфика сходит на нет.
Такая же метаморфоза происходит в заключительных повестях и с литературной формой. Грубость языка, варварство выражений в ранних легендах сочетаются с яркой, образной речью, индивидуальностью характеров, сложной, иногда ритмизированной конструкцией фраз. Герои Мабиноги принадлежат к числу самых ярких характеров ранней европейской литературы, причем это относится не только к главным, но и к второстепенным персонажам (например, сколько индивидуальности в образе Эвниссиэна из "Бранвен"). Даже речь их меняется в зависимости от обстановки. В "артуровских" повестях континентальное влияние приводит к обилию клише, к "скованности" языка. Текст кажется переводным, и это действительно перевод с языка европейского феодализма на язык валлийского кланового общества, где для каких-то понятий просто нет слов. Здесь по-прежнему встречаются индивидуальные характеры (особенно выделяется Передур), но это тоже уже не валлийцы, а идеальные рыцари Западной Европы.