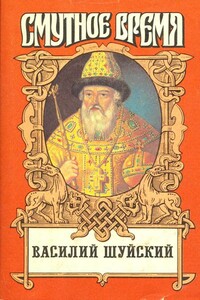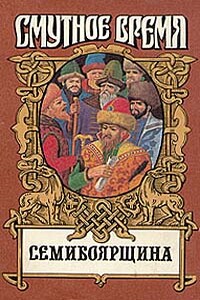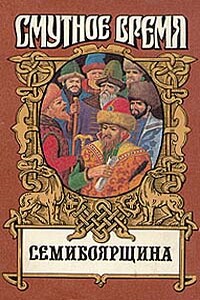Смиренно говорит это один из бояр, князь Иван Голицын. И снова низкий поклон.
Лжецаревич молча смотрит на бояр. Он величав и спокоен в этот великий для него час. Неужели это — бывший Григорий, расстрига-инок, слуга литовского пана? Откуда это величие, это гордое царское спокойствие? Ни один мускул не дрогнул в лице его, только в глазах поблескивают радостные огоньки.
— Вы заблуждались, я прощаю и вас, и мое войско. Пусть оно идет к Орлу — туда и я прибуду, — говорит Лжецаревич, и голос его ровен, тих, ни малейшего волнения в нем не приметно. Он — царь. Присяга войска не есть милость ему, это только должное.
— Истинный царь он, истинный! — шепчут боярские уста, и вдруг могучий крик: «Здравствуй многие лета, царь православный!» — потрясает стены палаты и сливается с «виватом» поляков.
Целое море костров. Вся равнина на несколько верст в ширину и длину усеяна ими. Громкий смех, веселые возгласы, звон чаш, ковшей и кубков висит в воздухе. Это недавние враги мирятся, «московцы» братаются с казаками, ляхами и другими сподвижниками самозванца. Все веселы, все довольны.
У одного из костров сидит князь Алексей Фомич Щербинин. Напротив него — маленький тщедушный человечек, с лицом, подернутым целою сетью мелких морщин, бледным, исхудалым, с жидкою козлиною бородкой. Он, видимо, очень стар, но его небольшие глаза еще не потускнели и светятся почти юношеским огнем. Тут же сидят и еще несколько человек, бражничают.
Ни старик, ни Щербинин не принимают участия в пирушке, но они и между собой не беседуют. Алексей Фомич уставился в огонь костра и глубоко задумался. С детства природа одарила его удивительною способностью думать образами. Он задумывался, и картина за картиной проносилась перед ним, и ему хотелось выразить в это время песней то, что он видит. Если он не преодолевал искушения — песня выливалась, мерная, звучная, слово за словом само находилось, как будто помимо воли боярина вырывалось из его уст.
В наше время такая способность была бы названа творческою, поэтическою, но он, боярин, едва вступивший на порог XVII века, не мог подобрать ей имени и только удивлялся ей.
Вот и теперь он думал, и образы проносились. Щербинин вспоминает боярскую беседу после Добрыничской битвы. Он видит желтоватое лицо Василия Ивановича Шуйского, обрамленное жидкою бороденкой, видит бледного, все еще недужного Мстиславского.
— Теперь довершить надо победу, двинуться дальше, — слабым голосом говорит Мстиславский.
— Э! Зачем? И то потрудились довольно, — отвечает Шуйский, и в его подслеповатых, часто мигающих красными веками, тусклых глазах Алексей Фомич читает затаенную мысль: «Пусть бы еще поколобродил расстрига, донял бы Бориса: так ему и надо!»
И дальше перед князем мелькают картины усмирения и наказания мятежной Севской волости, пожары деревень, толпы бегущих, плачущих женщин.
И кажется боярину, что это — осуществление думы Шуйского: «дать расстриге поколобродить», потому что целые толпы озлобленных с проклятиями и угрозами «московцам» бегут искать «своего царя Димитрия».
И весть за вестью идет, что самозванец жив, что он усиливается, засев в Путивле, а Борисово войско по-прежнему только жжет, грабит и разоряет несчастную область. Затем рать готовится пойти на отдых. Но тут грозный приказ Бориса: «Действовать!» Ратники ропщут, они ждали наград и отдыха за недавнюю победу, а вместо этого — царская немилость.
— Что за царь неласковый! — бормочут они, и другой, щедрый, «ласковый» царь Димитрий все чаще приводит им на ум.
Потом осада Кром. Что-то такое творится, что не сразу поймешь. Кромы — городишко, где сидят всего сотня-другая казаков, шесть десятков тысяч ратников осаждают этот городок и не могут взять! Перед взором Щербинина мелькает многое множество землянок, шалашей, палаток. Царские ратники забрались в них, как медведи в берлоги, и спят, едят или лениво смотрят, как проходят беспрепятственно обозы в осажденный город.
— Надо бы приступок учинить, — поглаживая бороду, говорит Мстиславский.
— Н-да, надо б… Да как учинишь с такими?.. — бормочет Шуйский, и в его мигающих глазах видна тревога.