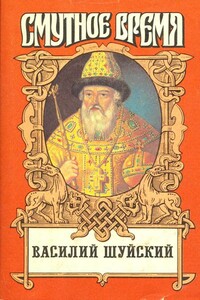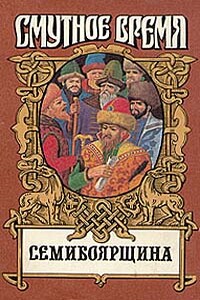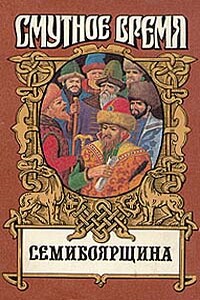Конь Двудесятина был добрый, и расстояние быстро сокращалось. Лазарь Павлович вглядывался и соображал:
«Русские — вишь, белые платки болтаются. Передний-то матерый, а второй малость поменьше да похудей… За которого прежде приняться? За матерого, сдается мне… А верней, с обоими разом биться придется…»
— Э, гой! Стой! Я вас! — крикнул он, подлетая к всадникам.
Всадники обернулись.
Лазарь Павлович едва не выронил саблю от изумления.
— Фомка?! — воскликнул он, взглянув на заднего. — Костька?! — крикнул старик, переведя глаза на переднего.
Фомка, красный как вареный рак, растерянно улыбался, Константин смущенно смотрел на отца.
— Так вот вы где, такие-сякие! А я вас в Москве искал. Ты с чего же это утек? Боярышню скрасть хотел, да не удалось, так стыдно стало, а? Бить тебя мало!
— Прости, батюшка… А только не от стыда ушел я… — проговорил несколько оправившийся от смущения Константин.
— С чего же?
— С горя.
— С горя?! Вона!
— Верно говорю. Люба мне Пелагея Парамоновна, а ты ее за брата просватал.
— Вот что… Гм… Стало быть, ошибся я, не за того сватал. А ты что же, дурень, не сказал мне?
— Мог ли я!
— Лучше скрасть было?
— Пожалуй, лучше.
— Может, и твоя правда… Ну, а братик твой тю-тю!
— Как так?
— Убег в иноки постригаться — мать весточку прислала с князем Алексеем Фомичом.
— Вот как! Значит, теперь ему уже не жениться на Пелагеюшке? — воскликнул молодой человек радостно.
— Эк, обрадовался! Захочу ли я сватать девицу за такого озорника, — добродушно ухмыляясь, заметил отец.
— Прости, батюшка!
— То-то, прости! Да уж что с тобой делать! Надо простить, — ответил старик и расцеловался с сыном.
— Положи и для меня гнев свой на милость, боярин, — промолвил все время молчавший Фомка.
— Простил его, так тебя и подавно, — сказал Двудесятин и на радости расцеловался и с холопом. — А вы, что ж это, тоже наутек было? — спросил потом он и нахмурился.
— Гм… Да… — смотря под ноги коня, ответил Константин.
— Вот за это тебя, вражий сын, проучить следовало бы! — внезапно раздражаясь, воскликнул старик. — Скверно то, что изменил царю нашему, а все ж, коли взялся за гуж, не скажи, что не дюж, бежать не годится… Нешто Двудесятины когда-нибудь от ворогов бегивали? А? Бегивали?
— Все бежали…
— Мало что все! Все бы с ума спятили, и ты тоже?
— Один в поле не воин…
— Мели, Емеля! Хотелось бы мне тебя теперь за волосья оттаскать, ну да уж простил, так делать нечего. Что ж теперь вы делать будете? Опять к расстриге?
— Нет, зачем же теперь?! — воскликнули в один голос Фомка и Константин и сорвали белые плащи.
— Теперь мы послужим царю нашему Борису Федоровичу, — сказал молодой боярин.
— Давно бы так. Пока что задайте жара тому жирному пану, который тамотка трясется на хромоногом конишке, а я себе тоже кого-нибудь поищу. Ну а вернемся в стан, потолкуем с Парамоном Парамоновичем — может, он и не прочь будет сосватать за тебя свою Пелагею, — проговорил старик, лукаво ухмыляясь.
Константин просиял.
— Ну, с Богом! — добавил Лазарь Павлович.
И они разъехались.
Молодой боярин и холоп его быстро нагнали поляка, раненая лошадь которого едва плелась, хотя он не только подстегивал ее, но колол ей концом сабли шею.
Фомка первый подскакал к нему.
— Сдавайся, что ли, пан! — крикнул он ляху.
Пан, жирный, как боров, посмотрел на холопа совершенно безумными от страха, вытаращенными глазами и не отвечал. Нижняя челюсть его так и прыгала.
— Сдавайся, что ль? — повторил Фомка и занес саблю.
Пан весь съежился, неистово вскрикнул и вдруг ткнулся лицом в гриву коня.
— Что, прикончил его? — спросил Константин Лазаревич.
— Пальцем не тронул. Это он, должно, с испуга, — ответил Фомка и тронул пана за плечо. — Слезай, что ли?
Лях качнулся от толчка, но не поднял головы.
— Ей-ей, зарублю! — раздраженно крикнул холоп.
Пан не шевельнулся.
— Чудной лях! — заметил боярин.
— Точно что. Ну вот сейчас ответит, — промолвил Фомка и, ухмыляясь, полоснул слегка саблей по руке поляка.
Поляк остался неподвижен, и кровь из раны не выступила.
— Да ведь он, никак, померши! — воскликнул, увидя это, боярин.
Фомка молча повернул к себе лицом голову пана, на него взглянули выпученные стеклянные глаза мертвеца.