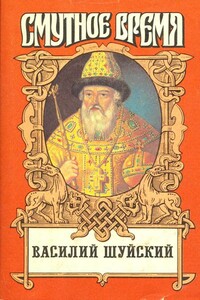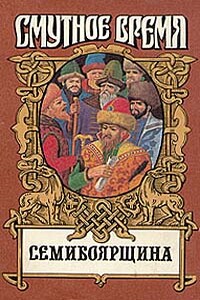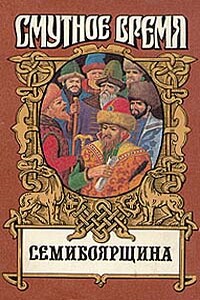Еще полной мерой тянули деревья из земли соки и зеленел лист, еще было впереди бабье лето с чистыми, омытыми днями, серебристыми прядями паутины и звонкими криками сбившихся в стаи птиц.
Жизнь властвовала всюду…
На Выксе в монастырские кельи солнце заглядывало только на закате. Маленькие оконца скупо пропускали свет. У инокини Марфы оконце бычьим пузырем затянуто, в келье полумрак. На бревенчатых стенах и на полу сосновые лапы. Хвойный дух забивал запах плесени и сырости.
Марфа стояла на коленях перед иконой, шептала слова молитвы. Глаза у инокини запали, и нос от худобы заострился. Черный платок покрывал голову и плечи.
— Господи, — жалобно просит Марфа, — вразуми!..
Десятый день постится инокиня, живет на воде и хлебе, мается душой. Десятый день ждет ее слова князь Скопин-Шуйский и постельничий Шапкин. Замутили они Марфе разум, растревожили.
О самозванце хоть и давно слышала инокиня, но всерьез те разговоры не принимала. И когда привозили ее в Москву и Годунов с женой допрашивали, инокиня злорадствовала, молчала, свое думала: «Неужели и впрямь верят они в живого Димитрия?»
Но год едва минул, а самозванец уже на царстве сидит, и за Марфой Скопин-Шуйский и Семка Шапкин явились. Знает инокиня, чего хочет от нее Григорий Отрепьев: чтобы она, бывшая царица Мария Нагая, признала его за сына Димитрия.
Крестится, и в больших, красивых глазах мука.
— Боже, — стонет Марфа, — что за испытание жестокое ниспослал мне, ужли грех брать велишь?
И сгибается, глухо стучит лбом об пол. Поднимает голову, устремляет взор в угол. Чадно тлеет лампада, коптит.
Вспоминается Марфе тот день, когда говорили с ней Годуновы и царица Марья замахнулась тогда горящей свечой. Все вынесла Марфа, а сейчас пришло пережитое на память — и возмутилась… Нахлынули прежние обиды: и то, как при царе Федоре Ивановиче по наущению Бориса Годунова ее, вдовствующую царицу Марию — жену покойного Ивана Грозного, вместе с малолетним сыном Димитрием и всеми родичами из Москвы в Углич сослали, и какой над ними надзор учинили, притесняли.
В гневе мутится разум у инокини Марфы. В коий раз приходит ей в голову, что кабы жила она в Москве, то, глядишь, с царевичем Димитрием и падучая не приключилась бы. Не будь той хвори, жил бы он…
Во всем, во всем винит Марфа Бориса Годунова: и в том, что заточена в монастырь, а не в царских хоромах живет, и что нет ей почета, какой имела прежде…
Коли признать самозванца Димитрием, то уедет она из глухого Выксинского монастыря в богатый московский монастырь, и хоть не снять ей до смерти монашеского одеяния, но почести будут царские.
Кладет Марфа широкий крест, стонет:
— Аз не человек ли?
Тихо ступая, вошла в келью послушница, положила на одноногий столик краюшку хлеба. Марфа головы не повернула, сказала властно:
— Сходи к князю Скопину-Шуйскому, передай, с ним в Москву еду.
Послушница удалилась, а инокиня поднялась, отряхнула колени, села на лавку. Скрестила на груди руки, подумала: каков-то он, самозванец, хоть чуток смахивает ли на сына? Марфе хочется плакать, но слез давно нет в ней. Извелась, иссушилась. Мысленно она просила Бога: «Господи, дай выдюжить, укрепи дух мой…»
* * *
Шуйский в гневе опрокинул стряпухе на голову горшок с горячей кашей. Почто греча на пару не взопрела, а она ему, князю Василию, ее на стол выставила?
Однако коли на все это с другой стороны взглянуть, так не оттого Шуйский метал грозы. Всему причина иная.
Давно бы пора воротиться князю Скопину-Шуйскому, а он отчего-то задерживается. Бояре злословили, шушукались: «По всему не хочет инокиня Марфа грех на душу брать…»
Митрополит Филарет сомневался, а князь Василий Иванович Шуйский, тот по-иному говорил:
— Как же, устоит Марфа. Не таковы Нагие, чтоб от царских почестей рыло воротить.
И хоть сказывал Шуйский такие ехидные слова, а в душе надежду теплил, что инокиня не пожелает ехать в Москву, откажется.
Но вот когда истекли все сроки, прискакал от Скопина-Шуйского гонец. Писал князь, что будет в Москве сразу после Покрова, да не один, с царицей-матерью…
Встречать инокиню Марфу выгнали всю Москву. Приставы и старосты в каждую избу захаживали. Кто добром не выходил, силком гнали, да еще приговаривали: