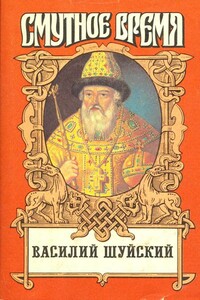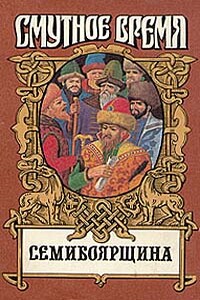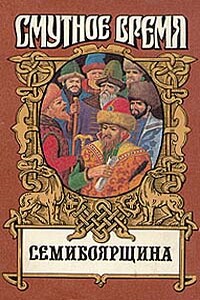Слуги внесли серебряные блюда с отварным мясом, пироги с сигом, запеченного осетра. По трапезной потянуло ароматным духом. Золотой двузубчатой вилкой Борис подцепил кусок мяса и, густо посолив, отправил в рот. Прожевал, запил холодным квасом.
Вкусно запахло свежевыпеченным подовым хлебом. На ум Борису пришла орущая толпа на улице Москвы. Мысленно сказал сам себе: «Урожаю бы хоть в нынешний год, люд успокоить».
Прошедшей зимой, когда участились разбои, просил Иова открыть для народа монастырские житницы, чтобы утихомирить толпы, но патриарх сказал: «Не мое это, в монастырских амбарах и клетях не волен я…»
Отобедав, царь поднялся из-за стола, улыбнулся дочери:
— Не печалься, Ксенюшка, все переменчиво.
Опершись на плечо сына, удалился из трапезной.
* * *
На другой день нежданно пришел в царские палаты Иов. Два крепкотелых молодых служки бережно поддерживали патриарха под локотки. Едва переступив порог, Иов тут же дал знак служкам оставить его.
Годунов встретил Иова, подвел к креслу, сам сел напротив. Патриарх прикрыл глазки, ни слова. Не нарушал молчания и Борис, ждал. Вот Иов заговорил:
— Взволновал ты меня, государь, своим вчерашним словом. Ночь очей не смыкал. Не таи, сыне, сказывай, что стряслось?
Приложив ладошку к уху, приготовился слушать. Борис заговорил негромко:
— Я, отче, вчерась речь вел, что не вижу злоумышленников явных, но чую, вьются они вокруг. Шепот их коварный слышу каждодневно. Да и сейчас, слышь, отче, голоса их. — Борис приподнялся в кресле, лицо болезненно перекосилось. — Они сговариваются убить меня и семью мою изничтожить. Средь них многих князей знаю я. Никому нет веры. Шуйский Васька юлит. В глаза одно, за глаза иное…
— Только и всего? Сам ведаешь, государь, князь Василий боится тебя, — прервал Годунова Иов. — А ко всему почитает. Шуйскому верь, сыне.
— А Голицыну? Послухи доносили, будто он к Шуйскому зачастил. К чему бы? И еще о чем уведомляют, Васька Голицын с иноком Филаретом сносится. Хотел я перехватить голицынского человека, да тот приставов перехитрил, ускользнул.
Борис вздохнул, помедлил. Снова заговорил:
— Я бы, отче, тому внимания не придавал, кабы хворь меня не одолела. Не стану таить от тебя, отче, изнутри она гложет меня, душевная. Не боюсь смерти, опасаюсь последствий. Федор еще малоопытен, а недруги коварные.
— Не помышляй о смерти, государь. Кто ведает, где его смерть? Когда же и настанет она, то отныне род твой царственный, и царевичу Федору нечего опасаться ворогов. Никому иному, ему одному трон наследовать. Кто на государя законного восстанет — против Бога пойдет.
— А слухи о живом царевиче Димитрии? — вымолвил Борис, и губы его побелели от волнения.
— Полно, государь, досужие речи. Забудь о них! Да и давно то было, два лета назад. Поговорили и унялись, к чему старое ворошить, государь? Об этом забыто всеми. Ты един царь на Руси.
— Так, так, — согласно закивал Годунов. — Только чую, возродятся оные слухи. — И склонился к патриарху, зашептал: — Вчерашнюю ночь приснился мне отрок Димитрий. Слышь, отче?
Глаза у Годунова расширились, лицо побледнело, лоб покрыли крупные капли пота.
— Успокойся, сыне, нынче все к добру клонится. Весна дружная, вона как жизнь пробудилась!
Борис смахнул широким рукавом кафтана пот со лба, вздохнул:
— Радуюсь и я тому, отче. Уродилось бы лето доброе, год сытный. Ты, отче, да церковь и дворяне служилые моя опора. Князьям же с боярами именитыми веры не даю.
Иов поджал губы, ничего не ответил.
— Немцы-лекари отваром всяким меня пользуют, но мне от того не легче, — снова сказал Борис.
— Молись, сыне.
— Да уж я ль не стараюсь! На Чудов монастырь недавно сто рублей пожертвовал.
Иов поднялся:
— Душа у тебя, государь, добрая.
Борис открыл перед Иовом дверь. Подскочили дожидавшиеся его служки, взяли патриарха под локотки, свели с царского крыльца.
* * *
А в ночь один на один с мыслями. В голове от дум тесно. Борис метался, весь в поту. Крепко сжав виски ладонями, стонал, покой не наступал. Откуда ни возьмись, видение появилось. Годунов без труда узнал в нем покойного Клешнина. Согнулся окольничий, хихикал: