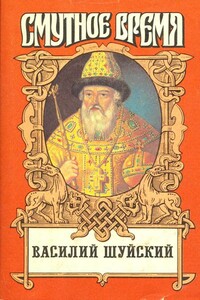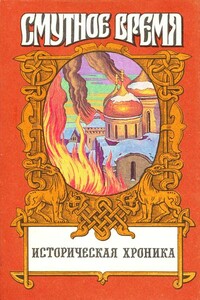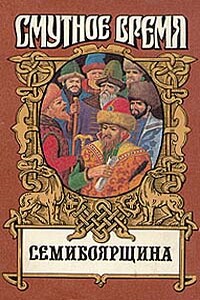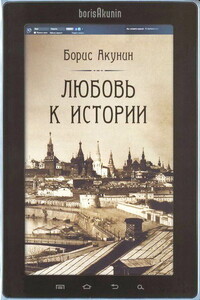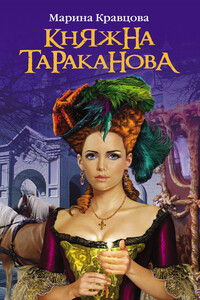— Что ж делать! Божья, знать, воля. Теперь тоскуй не тоскуй — не поможешь. Скажи лучше, куда ехали да как твоего пана звать?
— Звать Максимом Сергеичем… Из Гнорова мы…
— Так. А куда путь держали?
— К невесте его. В Черный Брод.
— Далеко отсюда?
— Тут за лесом. Близко.
— Боярин, садись в сани! Коней своих привяжем позади. Довезем Максима Сергеевича до его невесты.
— Тятьку, тятьку возьмите! — не своим голосом крикнул парень.
— Возьмем, не бросим при дороге… Эхма, мои лошадушки!
Григорий взял вожжи в руки, тряхнул ими, и тройка понеслась.
— Знаешь, боярин, ты останься в Черном Броде.
— Зачем?
— С такою раною тебе покой да уход нужен.
— А ты не останешься?
— Нет. Я и ночевать в панском доме не буду.
— Что так?
— Так, не с руки.
— Далеко ты едешь?
— Сам не знаю. Еду туда, где пошумней, полюдней, где людей ратных побольше.
— Зачем это тебе?
— Эх, друг! Есть у меня думушка, да не пришла пора открывать ее! Жизни сердце мое просит такой, чтоб дух захватывало! Или даром я учился? Или мозгов у меня мало, что должен в серости век свой коротать? Нет, товарищ! Не таковский я! Мне бы царством править, мне бы полки водить, а не так вот, в черном теле пребывать. И буду полки водить, буду!
Продрогшие кони, пугаемые завыванием волков, неслись с быстротой ветра. Лес все больше редел. Еще немного, и глазам путников представилась уходившая вдаль снежная, облитая лунным светом равнина.
Григорий встал и хлестнул по лошадям. Кони наддали. Снежные хлопья из-под копыт били в лицо едущим.
Григорий стоял и помахивал вожжами. Глубокая дума виднелась на его некрасивом лице. Грудь неровно поднималась. Павел Степанович смотрел на него и думал: «Ну, брат! Вон ты каков! Не ожидал!»
Черное пятно показалось вдали на белом фоне снега. Можно было неясно различить крыши изб и темную массу какого-то строения, стоявшего в стороне от изб.
— Черный Брод? — спросил Григорий парня.
Тот молча кивнул головой.
— Усадьба? — опять спросил спутник боярина, указывая на строение.
Парень снова кивнул головой.
Григорий остановил тройку и выпрыгнул из саней.
— Прощай, боярин!
— Ты куда же? Хоть бы доехал до деревни.
— Я полями наперерез скорее доберусь.
Григорий, ловко вскочил на коня.
— Прощай, приятель, коли так. Свидимся ль? — проговорил Белый-Туренин.
— Свидимся! Верно, свидимся если живы будем, Только я тогда вряд ли буду простым Григорием.
— А кем же будешь?
— Кем? — усмехаясь, промолвил Григорий. — Быть может, царем! Ха-ха! Прощай!
— Прощай!
Боярин шевельнул вожжами. Тройка понеслась. Он глядел в ту сторону, где виднелась быстро уменьшающаяся фигура скачущего на своем «степняке» Григория.
«И хороший он парень, а мозги у него, кажись, немного не на месте», — думал Павел Степанович.
Его дорожный спутник казался уже темною точкою. Вот и точка пропала. Белый-Туренин оглянулся и посмотрел вперед. Большой панский дом, обнесенный изгородью, глядел на него рядами темных окон. В двух из них виднелся свет.
Тройка подъехала к воротам.
Ночь темна, но тепла. Уже с неделю, как погода размякла. Впрочем, и не диво — дело к весне идет, уже начало марта. Вон и ветер совсем не тот, что дул в середине зимы — теплый, будто ласковый. В зимнюю пору подуй ветер — в поле беда! Закурились бы все холмики и бугорки мелкою снежною пылью, и понеслись бы белые тучи навстречу путнику, обвили бы, засыпали бы его, заставили бы его прижмуриться и уйти головой в высокий воротник овчинной шубы да прибавить шагу, чтобы поскорее выбраться на дорогу — не ровен час, разыграется метель, тогда — верная гибель среди снежных сугробов. Теперь не то — снег слежался, осел, покрылся тонкою ледяною корою; ветру не взвить над сугробами столбиков снежной пыли.
В поле тихо. Лишь изредка доносит ветер что-то похожее на отдаленный смех и говор, долетает тихое ржанье и фырканье коней. Услышит это шагающий по колено в снегу, одетый в рваную овчину крестьянин и посмотрит в ту сторону, откуда звук идет, и вздохнет глубоко, увидев вдали желтенькие, тусклые, едва видные огоньки в лачугах таких же, как он, бедняков-поселян и залитые светом окна дворца ясновельможного пана князя Адама Вишневецкого, живущего в своем Брагине с королевскою пышностью, и подумает: