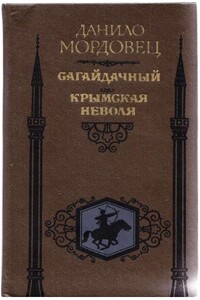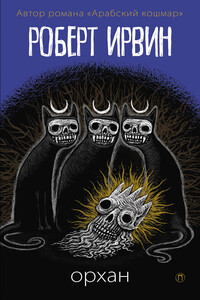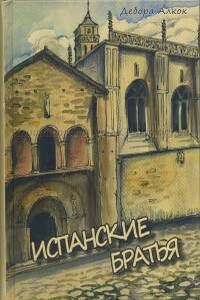Нет, не выдержал! Слишком велика тяжесть, которая висела на нём: шутка ли — вся старая Русь на одном волоске — Русь великопостная, Русь сугубой аллилуйи и двуперстного сложения, Русь поповская и монашеская, Русь скоромной гусиной зубочистки, Русь мухи, попавшей в дароносицу и не обсосанной, Русь, боящаяся телятины...
Лопнул волосок!.. Кто-то гениальный закричал в толпе заговорщиков:
— Коли так — так идём, братцы, в Стрелецкую слободу, побьём их сук-стрельчих со щенятами-стрельчатами. Пущай они берегут вора, обманщика, злодея! Идём!
Стрельцы не выдержали. Сами бы они готовы были умереть, вынести великие муки, но детки их, жёны... Нет, это было выше их сил. Для детей и жён — они отступились от царя...
Опять осталась около него одна Приблуда: ни у него, ни у неё никого не было на свете...
Подошли заговорщики вместе с боярами и думными людьми. По лицам их видел несчастный, что его ожидало.
— Батюшка! — вскричал он, поднимая руки к небу. — Батюшка мой! Отец! Царь Иван Васильевич!.. Погляди на меня, на своего сына... Погляди, что со мной делают! Батюшка! Родитель мой! Защити меня...
— Какой он тебе батюшка, еретик окаянный! — закричал Григорий Валуев. — Пёс твой батюшка, сука твоя матушка...
Приблуда кинулась на оскорбителя и чуть не схватила его за горло.
— Цыц, дьявол! Цыц! Вот отец твой, окаянное отродье! — И он ножом отсёк ухо у собаки.
Димитрия подняли и потащили во дворец, в новый «парадиз» его. Сам он не мог идти: когда сорвался с лесов, то вывихнул себе ногу, зашиб голову, расшиб грудь... Он был несказанно жалок... Рыжая, угловатая, так крепко сидевшая на плечах голова, ещё недавно украшенная короной, дрожала. Лицо подёргивало. Глаза искали своих в толпе, но никого не находили... Только голубые, добрые глаза немца Фирстенберга глядели участно... Вон труп Басманова, распростёртый на земле: открытые глаза, остеклевшие давно, глядят на небо, на солнце... Нет, и там, в небе, — нет ни жалости, ни правды...
— Их-то за что! Бедные мои! — невольно простонал злополучный царь, увидав в сенях своего дворца обезображенные трупы музыкантов и пахолят.
Да, и этих не пощадили. Ещё бы! Они — скоморохи, бесовским гудением занимались, а музыка — от беса... И гудцы их, и сопели, и бубны, и накры, и домры — всё разбито, растрощено вдребезги — всё это сатанинское...
А пахолята... Совсем дети, с детскими личиками, но эти личики уже мертвы. Это змеёныши литовские.
Парадиз весь окровавлен, загрязнён — всё в нём разбито, растащено...
Бедные алебардщики... Они обезоружены... Они не смеют поднять глаз на своего царя... Только добрый Фирстенберг проскользнул вслед за думными людьми, и, видя, что царю опять становится дурно, что его поразила эта картина разрушения, — сердобольный немец хотел снова дать страдальцу понюхать спирту... Несчастный! Не успел он поднести роковой пузырёк к страдальцу, как над головой его свистнула алебарда, и сердобольный немец с рассечённым надвое черепом упал мёртвым...
— Собаке собачья и смерть!.. Эти собаки-иноземцы и теперь не оставляют своего воровского государя! Надо всех их побить!
— За что их бить? Не они причины, а вот он... Он всему злу корень.
— А! Еретик окаянный! — кричат московские люди. — Что! Удалось тебе судить нас в субботу?
— А! Ты Северщину хотел отдать Польше!
— Ты латынских попов привёл!
— А зачем ты взял нечестивую польку в жену и некрещёную в церковь пустил?
— Казну нашу московскую в Польшу вывозил!
И при этом один бьёт его по голове, приговаривая — «Вот тебе венец!» — другой тычет пальцем в глаза, поясняя: «У, буркалы воровские!» — третий щёлкает его по носу, прибавляя: «Вот тебе трынка: вот тебе хлюст!» — четвёртый дёргает за ухо... Несчастный молчит: унизительно было бы перед таким народом даже стонать... И он не стонет, он не хочет даже видеть этих зверей... Он закрыл глаза — он переживал то, что должен был переживать некогда его предместник, юный Годунов...
— А отгадай, еретик, в которую щёку я тебя ударю? — говорит свирепый Валуев и бьёт его в обе щеки.
Срывают с него кафтан и надевают снятую с одного каторжника дырявую гуньку кабацкую, а на каторжника надевают царский кафтан.