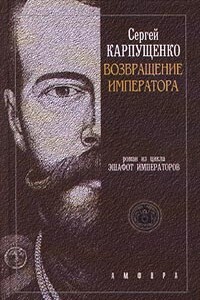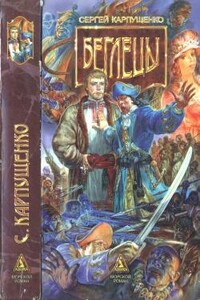Они брались за топоры по-разному. Кто, уверив себя, что лучше уж сделать дело да идти восвояси, покуда хуже не будет, рубил по стрелецкой шее коротким, сильным ударом. Другие долго молились, точно прося у Бога прощения за страшный грех, что-то негромко говорили присмиревшим на колоде стрельцам - не простить ли их просили? Третьи навзрыд рыдали, долго сопротивлялись, заходились в рвотной судороге при виде льющейся рядом крови, дергающихся обезглавленных тел, но, повинуясь окрику царя, полубесчувственные, дрожащие, поднимали топор, чтобы кое-как опустить его, чем причиняли страдания жертвам, за которых приходилось теперь браться палачу, досадовавшему на неловкость бояр, добивавшему корчившихся в муке стрельцов.
А неказненные стрельцы, возбужденные видом казни, не надеясь теперь на царскую милость, вопили, посылая Лже-Петру проклятья, поносили его срамными словами, руками, что были отягощены цепями, спускали порты, старались протиснуться сквозь цепь потешных, трясли своими скукоженными но холоде удами, кричали, покуда их не успевали затолкнуть назад:
- А вона тебе, немец, такого! Голову-то нашу отсечешь, а он-то останется! Других стрельцов наши бабы народят и тебе, ироду, сыны наши голову открутят!
Рубили стрелецкие головы часа два. В стороне, на заранее приготовленных подводах, холопы Преображенской слободы укладывали обезглавленные тела, рядом ставили сочившиеся кровью корзины с их головами, рты которых были отворены - так и застыли с хулой на устах. А бояре, уже исполнившие свой кровавый долг перед царем, или продолжали заходиться в долгой, тяжкой рвоте, или с натужно веселыми лицами повествовали друг другу о подвиге своем, стакан за стаканом вливая в себя водку, или, оцепенелые, со скорбными лицами, сидели в отдалении, тяжело дыша и свесив на грудь обесчещенную голову.
И никто в те тяжкие часы не обращал внимания на невысокого худого человечка в суконной епанче немецкого покроя, бегавшего саженях в ста от места казни, то и дело чудно приседавшего, сжимавшего в отчаяньи виски, начинавшего рыдать и часто говорившего: "Майн готт! О, майн готт!"
Казни продолжались долго. Казалось москвичам, будто вернулись времена Иоанна или сам Всадник на сером скакуне пронесся по Москве, размахивая направо и налево огромным, острым своим мечом. Вороны стаями слетались на добычу. Отягощенные набитыми мертвечиной чревами, они уже не могли потом летать, сидели смирно на припорошенных снегом крышах, зубцах кремлевских стен, без жадности глядя на покачивающиеся под ветром тела стрельцов, посиневшие, страшные, безглазые, как сама смерть. Жены и детишки бродили под повешенными днями и ночами, надеясь, что вдруг оборвется веревка и истерзанное, но все же любимое тело свалится вниз, на землю, и тогда они уволокут его, обмоют и обрядят, чтобы отправить туда, где их муж и отец уже будет недосягаем, не подвластен беспощадному антихристу. Но веревки не рвались, и стрельчихи со стрельчатами так и стояли у кремлевских стен...
Когда возок с царицей Евдокией в сопровождении трех саней со скарбом и гайдуков проезжал, скрипя полозьями, мимо Кутафьей башни, обряженный в кунью шубу боярин поднял руку в расшитой рукавице, останавливая его. Не торопясь, постукивая посохом с костяной булавой, подошел к возку.
- Чего тебе, боярин? - спросила Евдокия, приоткрывая дверцу: взгляд затравленный, потухший, голова в платке, подвязанном под подбородок.
- А выйди-ка, Авдотья, - в бороду промолвил Ромодановский.
Но тут же стольник, не слезая с лошади, сказал:
- Боярин, самого государя указ - без промедления царицу везть по назначенью! Отойди, а то холопы отведут подале!
Ромодановский так посохом ударил по земле, что брызнули по сторонам осколки льда. Закричал на стольника:
- А ну-ка, сукин сун, пасть свою заткни рукавкой! Молод мне давать указы, хоть и от царя они!
И, уже приближая свое лицо к царице, заговорил:
- Авдотья, а Авдотья, Христом Богом заклинаю, ответь ты старику, ответь - одна лишь ты знаешь - государь ли истинный к тебе вернулся?!
Женщина, принужденная навек стать монахиней, все-таки молчала. Евдокия знала, что царь последний месяц каждую ночь проводит в Немецкой слободе, у ненавистной немки, но ведь и прежний Петр до заграницы не выходил из спальни Анны, но, вернувшись, стал на время совсем другим. "Может, переменится, - думала царица даже и тогда, когда услышала от самого Петра приказ выбрать монастырь и поселиться в нем. - Переболеет немкой, опостылеет она ему!" Оттого-то и молчала...